|
||||
|
|
Часть З БОЧКА И ОБРУЧИ АРИФМЕТИКА ИСТОРИИ 17 сентября 1939 года войска Белорусского и Украинского фронтов Красной Армии вторглись в Польшу. Так, с вероломного нападения на страну, с которой был подписан Договор о ненападении (заключен в 1932 г., в 1937 г. продлен до 1945 г.), начал Советский Союз свое прямое участие во Второй мировой войне. Два года спустя, в конце лета 1941 г., очень многим и друзьям и врагам Советского Союза казалось, что война эта подходит для него к концу. Задача, поставленная перед вермахтом по плану «Барбаросса» («основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев...»), была выполнена уже к середине июля 1941 г. Войска Прибалтийского и Западного военных округов (более 70 дивизий) были разгромлены, отброшены на 350—450 км к востоку от границы, рассеяны по лесам или взяты в плен. Чуть позднее то же самое произошло и с новыми 60 дивизиями, введенными в состав Северо-Западного и Западного фронтов в период с 22 июня по 9 июля. Противник занял Литву, Латвию, почти всю Белоруссию, форсировал Буг, Неман, Западную Двину, Березину и Днепр. 9 июля немцы заняли Псков, 16 июля — Смоленск. Две трети расстояния от западной границы до Ленинграда и Москвы были пройдены менее чем за месяц. Войска Юго-Западного фронта в беспорядке отступили за линию старой советско-польской границы, в середине июля 1941 г. танковые части вермахта заняли Житомир и Бердичев, вышли к пригородам Киева. То, что советские историки скромно называли «неудачей приграничного сражения», означало на деле полный разгром Первого стратегического эшелона Красной Армии (по числу дивизий превосходившего любую армию Европы, а по количеству танков превосходившего их все, вместе взятые). Практически вся техника и тяжелое вооружение войск западных округов были потеряны. К 6—9 июля войска Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов потеряли 11,7 тыс. танков, 19 тыс. орудий и минометов, более 1 млн единиц стрелкового оружия [35, стр. 368]. Особенно тяжелые, практически невосполнимые потери понесли танковые войска. Уже 15 июля 1941 г. остатки мехкорпусов были официально расформированы. Войска Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов в период с 22 июня по 6—9 июля потеряли 749 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести [35, стр. 162—164]. Эта цифра не включает потери тех частей и соединений Второго Стратегического эшелона, которые уже в начале июля приняли участие в боевых действиях; не включает потери Северного фронта (Ленинградский ВО) и Южного фронта (Одесский ВО), которые начали активные боевые действия соответственно 29 июня и 2 июля 1941 г. Понять подлинное значение этих ужасающих цифр можно, только сравнив их с потерями личного состава вермахта. В знаменитом «Военном дневнике» начальника штаба Сухопутных войск Германии Ф. Гальдера приведены следующие цифры общих потерь (убитые, раненые, пропавшие без вести) вермахта на Восточном фронте: — 64 132 человека к 6 июля 1941 г. — 92 120 человек к 13 июля 1941 г. Таким образом, потери наступающего — причем очень успешно, по 20—30 км в день наступающего — вермахта и обороняющейся Красной Армии соотносятся примерно как 1 к 10. Не менее красноречивы и цифры, характеризующие соотношение потерь боевой техники. Как было отмечено выше, Красная Армия уже к 9 июля потеряла 11,7 тыс. танков, а безвозвратные потери танковых дивизий вермахта к концу июля 1941 г. составили всего 503 танка. К этой цифре следует добавить потерю 21 «штурмового орудия» StuG-III. Можно приплюсовать и потерю 92 танкеток Pz-I. Даже при таком подходе соотношение безвозвратных потерь танков сторон составляет 1 к 19. Это есть «чудо», не укладывающееся ни в какие каноны военной науки. По здравой логике — и по всей практике войн и вооруженных конфликтов, — потери наступающего должны быть больше потерь обороняющегося. Соотношение потерь 1 к 10 возможно разве что в том случае, когда белые колонизаторы, приплывшие в Африку с пушками и ружьями, наступают на аборигенов, обороняющихся копьями и мотыгами. Но летом 1941 г. на западных границах СССР была совсем другая ситуация: обороняющаяся сторона не уступала противнику ни в численности, ни в вооружении, значительно превосходила его в средствах нанесения мощного контрудара — танках и авиации, да еще и имела возможность построить свою оборону на системе мощных естественных преград и долговременных оборонительных сооружений. К 10—15 июля 1941 г. немцы заняли (точнее сказать — прошли) территорию площадью в 700 тыс. кв. км, что примерно в 3 раза больше территории Польши, оккупированной вермахтом в сентябре 1939 г., и в 6 раз больше территории Бельгии, Нидерландов и клочка Северной Франции, захваченных вермахтом в мае 1940 г. На сопоставлении событий мая 40-го и июня 41-го стоит, наверное, остановиться чуть подробнее. Десятки лет советская историческая пропаганда распространяла слухи про «триумфальный марш», каковым вермахт якобы прошел по «поверженной Франции». В последнее время звуки этого «марша» все громче и все чаще раздаются со страниц наиновейших публикаций. Оно и понятно — после того как масштаб катастрофического разгрома Красной Армии стал известен широкой публике, у авторов определенной политической ориентации появилось большое желание изобразить поражение французской армии в самых ярких красках. Мы же в очередной раз обратимся к простым и скучным школьным предметам: арифметике и географии. Боевые действия мая 1940 г. происходили на «пятачке» Нормандии и Фландрии, с максимальными расстояниями в 300 км по фронту и 350 км в глубину. По площади эта территория примерно соответствует размерам Литвы, которую одна из трех, самая малочисленная, Группа армий «Север» заняла за одну неделю июня 1941 г. К берегам Ла-Манша передовые танковые соединения вермахта вышли в районе Булонь-Кале 23 мая 1940 г. Это был, конечно же, блистательный успех — за 14 дней наступления немецкие танковые дивизии прошли 350 км. Все познается в сравнении. Для того чтобы определить, где находились немецкие танковые дивизии на 14-й день «похода на Восток», обратимся опять же к дневнику Ф. Гальдера. В оценках и выводах «битый гитлеровский генерал» часто и сильно ошибался, но местоположение своих войск начальник Генерального штаба вермахта все-таки знал: «5 июля 1941 года, 14-и день войны Обстановка: На всех участках фронта отмечается продвижение в соответствии с планами... На фронте Группы армий «Центр» правое крыло танковой группы Гудериана удержало плацдарм на р. Днепр в районе Рогачева (450 км до ближайшей точки на границе. — М.С.)... Танковая группа Гота кроме Дриссы форсировала также и Западную Двину выше Полоцка в районе Улла (425 км от границы. — М.С.) и закрепилась на северном берегу реки... На фронте Группы армий «Север» танковая группа Гёпнера успешно продвигается и приближается своим левым флангом к Острову (470 км от границы) 7июля, 16-й день войны ...На фронте Группы армий «Юг» наши войска прорвали центральный участок оборонительной полосы противника. 11-я танковая дивизия прорвалась восточное Полонное (260 км) и теперь прокладывает себе путь на Бердичев среди колонн отступающих русских войск. 16-я танковая дивизия находится в Староконстантинове (250 км). 9-я танковая дивизия в настоящее время участвует в большом танковом сражении в районе Проскурова (280 км)...» Так что если говорить про темп «марша», то летом 41-го вермахт наступал несколько быстрее и на гораздо большем по протяженности фронте, нежели в мае 1940 г. Теперь взглянем на ситуацию первых недель войны с другой стороны. Какие потери нанес вермахт в ходе так называемого «триумфального марша» во Франции и преодолевая «ожесточенное сопротивление» Красной Армии на Восточном фронте? 8известной монографии Типпельскирха приведены такие цифры потерь вермахта во Французской кампании: 27 тыс. убитых, 18,4 тыс. пропавших без вести, 111 тыс. раненых, итого — 156 тыс. человек [127]. По уточненным данным, представленным в столь же хрестоматийно-известной работе Мюллер — Гиллебранда, число погибших составило 49 тыс. человек [11], что даже несколько больше, чем общее число безвозвратных потерь, указанных Типпельскирхом. В дневнике Ф. Гальдера сопоставимые цифры общих потерь вермахта на Восточном фронте появляются только в конце июля 1941 г. Если перевести данные Гальдера в более привычный для нас вид (объединив потери солдат и офицеров), то получится следующее: — 102 588 человек (не считая больных) к 16 июля 1941 г. — 179 500 человек к концу июля (запись от 2 августа). — 213 301 человек к 31 июля (запись от 4 августа). В конце июля 1941 г. вермахт наступал на гигантском фронте от Нарвы до Кишинева (1450 км по прямой), за спиной наступающих была уже территория, десятикратно превышающая по площади зону боев Французской кампании. С учетом этого едва ли будет уместно сравнивать немецкие потери по простому «календарному принципу»: за 35—40 дней на Западе и за 40 дней на Востоке. Значительно более корректным будет сравнение, построенное на принципе «цена—результат». По общепринятой в отечественной историографии хронологии «приграничное сражение», т.е. разгром войск западных приграничных округов (Прибалтийского, Западного и Киевского) ограничено рамками 22 июня — 9 июля. Уже на этом этапе результат, достигнутый немецкими войсками (численность разгромленных войск противника, глубина наступления, захваченные трофеи), превысил все военные (не путать с политическими) достижения Французской кампании. Потери же вермахта к этому моменту, как было выше отмечено, оставляли порядка 65—90 тыс. человек, т.е. были в 1,5—2 раза меньше потерь «триумфального марша» на Западном фронте! Заслуживает внимания и соотношение потерь немецких танков [10, 36]. 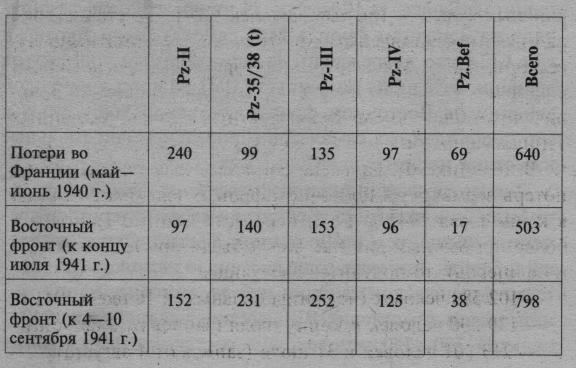 Особенно впечатляют практически равные цифры потерь средних немецких танков (Pz-III и Pz-IV) на Западном и на Восточном фронтах — и это при том, что основным орудием французской ПТО была 25-мм «Марианна» фирмы Гочкис, а противотанковые вооружения Красной Армии начинались с 45-мм пушек в стрелковых дивизиях и заканчивались 76-мм и 85-мм пушками в составе ПТАБов. Мы не стали здесь учитывать потери пулеметных танкеток Pz-I. Во-первых, потому, что это не танк, во-вторых, потому, что огромные их потери во Франции (182 единицы) сделают соотношение потерь еще более сюрреалистичным. К аналогичным выводам приводит и сравнение потерь, понесенных немецкой авиацией во время майских (1940 г.) боев в небе Франции и летом 1941 г. на Восточном фронте. За первые три недели войны на Западном фронте (с 10 по 31 мая 1940 г.) безвозвратные потери люфтваффе (самолеты всех типов) составили 978 самолетов. За первые три недели войны на Восточном фронте (с 22 июня по 12 июля 1941 г.) безвозвратные потери люфтваффе (самолеты всех типов) составили, по данным разных источников, от 473 до 550 самолетов. В два раза меньше, чем в небе Франции. В целом за все время кампании на Западе (с 10 мая по 24 июня) люфтваффе потеряло на Западном фронте 1401 самолет безвозвратно, и еще 672 было повреждено. За сопоставимый промежуток времени (с 22 июня по 2 августа 1941 г.) потери немецкой авиации на Восточном фронте составили 968 сбитых и 606 поврежденных самолетов (приведены максимальные известные цифры). Таким образом, потери люфтваффе на Западном фронте были — в любом из рассматриваемых интервалов времени — выше, чем на Восточном фронте. Остается только добавить, что максимальное число летчиков-истребителей французской авиации и базировавшихся во Франции частей английских ВВС составляло к 10 мая 1940 г. порядка 700—750 человек, а в составе истребительных частей ВВС западных военных округов СССР, ВВС Черноморского и Балтийского флотов к началу войны было порядка 3500 летчиков-истребителей (самолетов-истребителей было гораздо больше, так как авиация перевооружалась на новые типы самолетов, и в некоторых истребительных авиаполках самолетов было в 1,5—2 раза больше, чем летчиков). При всем при этом майские бои во Франции отнюдь не являются примером успешно проведенной оборонительной операции. Никто из французских политиков, историков, писателей пока еще не догадался назвать это позорище «великой патриотической войной французского народа». Наоборот, слова «май 1940 года» стали для Франции синонимом катастрофы и величайшего национального унижения. «Потрясенная нация находилась в оцепенении, армия ни во что не верила и ни на что не надеялась, а государственная машина крутилась в обстановке полнейшего хаоса» — так описывает в своих мемуарах май 1940 г. Шарль де Голль. Черчилль вспоминает, как утром 15 мая 1940 г. его разбудил телефонный звонок — глава правительства Франции П. Рейно в начале шестого дня войны спешил сообщить ему, что «все пропало...». И те потери, которые французские, английские, бельгийские, голландские солдаты смогли нанести тогда противнику, но тот minimum minimorum, который оказался достижим к условиях общего хаоса, паники и паралича воли у высшего руководства страны... В середине июля 1941 г., после блестящего успеха первых операций, немецкому командованию пришлось узнать, что окруженные и разгромленные армии западных поенных округов СССР представляли собой лишь часть «основных сил русских сухопутных войск». А на место разбитых дивизий из глубин огромной страны приходили нее новые, новые и новые соединения. В конкретных цифрах эта круговерть смерти выглядела так. К началу войны Западный фронт (3, 10, 4, 13-я армии) насчитывал в своем составе 44 дивизии. После того как почти все они были уничтожены в огромном «котле» между Белостоком и Минском, Ставка создает фактически новый Западный фронт в составе пяти армий: 16, 19, 20, 21, 22-й. Вслед за этим 14 июля в тылу Западного фронта развертывается Резервный фронт в составе шести армий: 24, 28, 29, 30, 31 и 32-й. К концу июля на западном направлении развертываются еще три армии: 33, 43 и 49-я. Причина, по которой Красная Армия стремительно наращивала свою численность в объемах, совершенно недосягаемых для противника, предельно проста. То количество дивизий, которое вермахт смог сосредоточить у границ Советского Союза, представляло собой максимум, который смогла достичь 80-миллионная Германия на втором году после начала всеобщей мобилизации. С другой стороны, полторы сотни дивизий Первого стратегического эшелона, которые Красная Армия сосредоточила у западных границ к середине июня 1941 г., представляли собой тот минимум, который 200-миллионный Советский Союз смог сформировать в рамках скрытой, тайной мобилизации, еще ДО объявления открытой всеобщей мобилизации. 23 июня 1941 г. была начата открытая мобилизация, и уже к 1 июля в ряды Вооруженных сил было призвано 5,3 млн человек (что означало увеличение общей численности военнослужащих в два раза по сравнению с состоянием на 22 июня). Но 1 июля мобилизация, разумеется, не закончилась. Она еще только начиналась... Всего в ходе двухмесячного Смоленского сражения на западном направлении было введено в бой 104 дивизии и 33 бригады. На два других стратегических направления (ленинградское и киевское) Ставка направляет ешс 140 дивизий и 50 бригад [21]. И все это бесчисленное воинство было разгромлено, окружено и пленено в новых «котлах» — у Смоленска и Рославля, Умани и Киева, Вязьмы и Брянска. Немцы захватили Киев, Харьков и Одессу, блокировали Ленинград, вышли к Москве. К концу сентября 1941 г. Красная Армия только в ходе семи основных стратегических операций потеряла 15 500 танков, 66 900 орудий и минометов, 3,8 млн единиц стрелкового оружия [35, стр. 368]. Потери авиации уже к концу июля достигли отметки в 10 000 боевых самолетов. С потерями противника эти цифры даже невозможно сравнивать — у вермахта просто не было такого количества тяжелых вооружений. 3 сентября 1941 г. Сталин, пытаясь одновременно и напугать и разжалобить Черчилля, писал ему: «Без этих двух видов помощи (речь шла о высадке англичан во Францию и о поставках в СССР 400 самолетов и 500 танков ежемесячно. — М.С.) Советский Союз либо потерпит поражение, либо... потеряет надолго способность к активным действиям на фронте борьбы с гитлеризмом...» [72, стр. 233]. Десять дней спустя Сталин совершил то, в чем обвинялись и за что были расстреляны десятки тысяч жертв Большого Террора: призвал британских империалистов совершить вторжение в страну победившего пролетариата. 13 сентября он уже просил Черчилля «высадить 25—30 дивизий в Архангельск или перевести их через Иран в южные районы СССР» [72, стр. 239]. Потрясенный таким поворотом событий, Черчилль писал Рузвельту: «Мы не могли избавиться от впечатления, что они (советские руководители. — М.С), возможно, думают о сепаратном мире...» Как знать — если бы Гитлер послушал умного совета многих своих подельников и завершил войну с Советским Союзом примерно на таких же условиях, на каких 24 июня 1940 г. было подписано перемирие с Францией (т.e. сокращение армии до 10 пехотных дивизий, разоружение французской авиации и военно-морского флота, демилитаризация экономики), то история Старого Света сложилась бы иначе... За три месяца войны, с 22 июня по 26 сентября, только на южном ТВД советские войска потеряли 1 934 700 единиц стрелкового оружия всех типов, т.е. винтовок, пулеметов, автоматов и револьверов. Всего же в 1941 г. Красная Армия потеряла 6 290 ООО единиц стрелкового оружия [35, стр. 367]. Строго говоря, одна эта цифра дает уже исчерпывающий ответ на вопрос о пресловутой «загадке 1941 года». Для самых возмущенных гнусными намеками автора читателей напоминаю, что эта цифра взята из статистического сборника «Гриф секретности снят», составленного сотрудниками Генерального штаба Российской Армии под общим руководством генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева. На странице 367 того же сборника каждый желающий может прочитать, что на всех фронтах за шесть месяцев 1941 г. было потеряно 40 600 орудий всех типов и 60 500 минометов. Ну, эти потери еще как-то объяснимы. Пушка — вещь тяжелая. Даже самая легкая (76-мм полковая образца 1927 г.) весила без малого тонну. Дальнобойная 152-мм пушка образца 1935 г. весила 17 тонн. Как ее вытащить из окружения, если тягач сломался или остался в хаосе отступления без горючего? И как переместить это чудище через первую же речушку? Вброд — завязнет, через мост — но его еще надо найти, да и не всякий мост выдерживает 17 тонн. Потерю десятков тысяч танков и самолетов советские историки объяснили давно и просто: старые, ненадежные «гробы», горели «как свечи», горючего не было, запчастей не было... О чем тут еще спорить? Но куда же делись миллионы единиц стрелкового оружия? Самое массовое «стрелковое оружие» 1941 г. — винтовка Мосина. Винтовка эта была и осталась непревзойденным образцом надежности и долговечности. Ее можно было утопить в болоте, зарыть в песок, уронить в соленую морскую воду - а она все стреляла и стреляла. Вес этого подлинного шедевра инженерной мысли — 3,5 кг без патронов. Это значит, что любой молодой и здоровый мужчина (а именно из таких и состояла летом 1941 г. Красная Армия) мог без особого напряжения вынести с поля боя 3—4 винтовки. А уж самая захудалая колхозная кобыла, запряженная в простую крестьянскую телегу, могла вывезти в тыл сотню пинтовок, оставшихся от убитых и раненых бойцов. И еще. Винтовки «просто так» не раздают. Каждая имеет свой индивидуальный номер, каждая выдается персонально и под роспись. Каждому, даже самому «молодому» бойцу первого года службы объяснили, что за потерю личного оружия он пойдет под трибунал. Впрочем, не будем упрощать. На войне как на войне. Не всегда удается собрать на поле боя все винтовки до последней. Не каждый грузовик и не каждый вагон с оружием в боевой обстановке доходят до места назначения. Наконец, какое-то количество винтовок и автоматов на самом деле могли быть испорчены огнем, взрывом, заполярным холодом... На той же странице 367 сборника •Гриф секретности снят» можно прочитать, что за четыре месяца 1945 г. было потеряно 1,04 млн единиц стрелкового оружия, а за 12 месяцев 1944 г. — 2,81 млн. единиц. Значит ли это, что за шесть месяцев 1941 года «нормальные» для Красной Армии (в вермахте потери стрелкового оружия были несравненно меньше) потери стрелкового оружия должны были бы выражаться цифрой примерно в 1,5 млн единиц? Нет, это неверный, поспешный иывод. В 1944—1945 гг. численность действующей армии пыла в два раза больше, чем в 1941 г. (6,4 млн. против 3,0 млн, см. Стр. 53 того же сборника). Больше людей, больше оружия — больше и потери оружия. Правильнее будет считать примерно так: в 1944 г. один миллион солдат «терял» в месяц 36 тысяч единиц стрелкового оружия, следовательно, за шесть месяцев 1941 г. «нормальные» потери не должны были бы превысить 650—700 тысяч единиц. А потеряно — 6,3 млн. Итак, налицо «сверхнормативная» утрата в 1941 г. более 5,5 миллиона единиц стрелкового оружия. Запомните, уважаемый читатель, это число. Оно нам вскоре опять встретится. А сейчас мы постараемся оценить «сверхнормативные потери» в других видах вооружений. Гитлеровский «блицкриг» — это главным образом танковая война. Главное средство противотанковой обороны того времени — противотанковые пушки. По состоянию на 22 июня 1941 г. их в Красной Армии числилось 14 900 (на самом деле — еще больше, так как составители сборника «Гриф секретности снят» почему-то не учли 76-мм и 88-мм пушки, стоявшие на вооружении ПТАБов). За шесть месяцев 1941 г. промышленность передала в войска еще 2500 противотанковых пушек. Итого — общий ресурс в 17 400 единиц, из которого 70% (12 100 пушек) было потеряно. А за весь 1943 г. — за все его 12 месяцев — потеряно 5500 противотанковых пушек, что составило всего лишь 14,6% от общего ресурса. В качестве примера для сравнения 1943 г. выбран не случайно. Это год грандиозных танковых сражений на Курской дуге, это тот год, когда немцы начали массовое производство тяжелых танков «Тигр» и «Пантера», против которых наши «сорокапятки» (а именно они все еще составляли 95% от общего ресурса 1943 г.) были совершенно беспомощны. И тем не менее в 1943 г. Красная Армия теряла в среднем по 460 противотанковых пушек в месяц, а в 1941 г. — в то время, когда два из трех немецких танков на Восточном фронте были легкими машинами с противопульным бронированием, — по 2000 в месяц. В 4,5 раза больше. Столь же «выразительными» являются и пропорции потерь орудий полевой артиллерии. В 1943 г. потеряно 5700 орудий (9,7% ресурса), а за шесть месяцев 1941 г. — 24 400 (56% от общего ресурса). Условные «среднемесячные» потери 1941 г. были в 8,5 раза больше, чем в году 43-м. На общем мрачном фоне резко выделяется одно-единственное «светлое пятно», а именно: потери тяжелых орудий большого калибра (203-мм и более) составили в 1941 г. всего лишь 9,1% от ресурса. Разгадка пре дельно проста. Перед нами характерный пример того, что называется «исключение, которое лишь подтверждает правило». Тяжелая артиллерия (а она и вправду была тяжелой, от 17 до 45 тонн) в первые же дни войны была выведена с территории Западных военных округов в глубокий тыл. Маршал артиллерии Н.Д. Яковлев (начальник ГАУ в годы войны) вспоминает: «...Наиболее крупным мероприятием, которым я горжусь и по сей день, явилось принятое по моей рекомендации категорическое распоряжение Ставки об отводе всей артиллерии большой и особой мощности в тыл. Причем отвода немедленного, без ссылок на тяжелейшую обстановку первых дней войны... Все орудия калибра 203 и 280 мм, а также 152-мм дальнобойные пушки (потеряны были всего лишь единицы) с кадровым составом вовремя оказались в глубоком тылу...» [170, стр. 92]. Трудно сказать, стоит ли гордиться таким решением, но оно было реализовано, и вывезенные «в глубокий тыл» орудия оказались вне зоны хаоса и панического бегства первых месяцев войны. Потому и уцелели. Теоретически самым надежным видом огнестрельного оружия является миномет. Труба — она и есть труба, ломаться там просто нечему: нет затвора, нет ни одной подвижной детали, сама «труба» (в отличие от ствола артиллерийского орудия) почти не нагружена давлением пороховых газов. И тем не менее во втором полугодии 1941 г. потери 50-мм минометов составили 64% от общего ресурса, 82-мм минометов — 60% ресурса, 120-мм минометов — 51% ресурса. В точности такие же минометы в 1943 г. ломаться почти перестали: за 12 месяцев потеряно соответственно 12,5, 9,2, 8,6% общего ресурса минометов калибра 50, 82 и 120 мм. Главный вопрос: летом 1941 г. все эти пушки (минометы, пулеметы, танки, винтовки, самолеты) были потеряны в бою или брошены разбежавшимися по лесам и полям бойцами и командирами Красной Армии? СТОЛЬКО И ЕЩЕ РАЗ СТОЛЬКО 17 июля 1941 г. начальник Управления политпропаганды Юго-Западного фронта Михайлов докладывал: «...В частях фронта было много случаев панического бегства с поля боя отдельных военнослужащих, групп, подразделений. Паника нередко переносилась шкурниками и трусами в другие части, дезориентируя вышестоящие штабы о действительном положении вещей на фронте, о боевом и численном составе и о своих потерях. Исключительно велико число дезертиров. Только в одном 6-м стрелковом корпусе за первые 10 дней войны задержано дезертиров и возвращено на фронт 5000 человек... По неполным данным, заградотрядами задержано за период войны около 54 ООО человек, потерявших свои части и отставших от них, в том числе 1300 человек начсостава...» [68]. Это по «неполным данным», и это только те, кого удалось в обстановке общего развала Юго-Западного фронта задержать в течение трех недель.... О количестве непойманных дезертиров можно судить по тому, что, по данным сборника «Гриф секретности снят», потери Юго-Западного фронта с 22 июня по 6 июля составили: — 65 755 раненых и больных, — 165 452 убитых и пропавших без вести. С помощью буквы «и» составители сборника ловко спрятали дезертиров в общем числе безвозвратных потерь, но принимая во внимание очень стабильное для всех вооруженных конфликтов XX века соотношение раненых и убитых как 3 к 1, можно предположить, что порядка 140 тысяч человек (десять дивизий!) подались в бега или сдались в плен. И это только на одном фронте и только за две первые недели войны. Те самые недели, во время которых и произошел полный разгром мехкорпусов Юго-Западного фронта (о чем шла речь в части 2 нашей книги). Те, кого поймали и тем или иным способом вернули в строй, составляли лишь часть (как будет показано далее — малую часть) от общего числа «дезертиров». Кавычки поставлены не случайно. Обстановка, сложившаяся в Красной Армии летом 1941 г., была такова, что использование общепринятых терминов для ее описания становится крайне затруднительно. «Типовая схема» разгрома и исчезновения воинской части Красной Армии (как это видно из множества воспоминаний, книг, документов) была следующей: Пункт первый. Потеря командира. Причины могли быть самые разные: погиб, ранен, уехал выяснить обстановку в вышестоящий штаб, застрелился, просто сбежал. Применительно к частям, сформированным в западных, «освобожденных» регионах СССР, к этому перечню можно добавить и «убит подчиненными». Потеря командира была самым распространенным, но не единственным «толчком», приводившим к стремительному распаду воинской части. Таким толчком мог послужить и реальный прорыв вражеских танков во фланг и тыл, и автоматная стрельба, устроенная небольшой группой немецких мотоциклистов, а то и просто чей-то истошный вопль: «Окружили!» Пункт второй. Младшие командиры, взявшие на себя командование обезглавленной воинской частью, принимают решение «прорываться на восток». Спасительная простота такого решения обманчива. Оторваться пешком от моторизованного противника невозможно, а транспорт и горючее в лишенной связи и снабжения воинской части быстро заканчивается. Вышедшие из полевых укреплений и оставившие большую часть тяжелого вооружения войска превращаются в беззащитную мишень для авиации и артиллерии врага. Наконец, сама обстановка отступления, ощущение своей слабости перед лицом противника крайне деморализуют войска. Пункт третий. После нескольких неудачных попыток прорыва уцелевшие решают «отходить мелкими группами». Все. Это — конец. Через несколько дней (или часов) бывший батальон (полк, дивизия) рассыпается в пыль и прах. Пункт четвертый. Огромное количество одиноких «странников», побродив без толка, без смысла и без еды по полям и лесам, выходит в деревни, к людям. А в деревне — немцы. Дальше вариантов уже совсем мало: сердобольная вдовушка, лагерь для военнопленных, служба в «полицаях». Вот и все. Каким словом вправе мы назвать этих людей? Дезертиры, изменники Родины, отставшие от воинской части, пропавшие без вести, сдавшиеся в плен, захваченные в плен? Какими весами, какой линейкой можно измерить, чего в этой схеме больше: «не умели воевать» или «не хотели воевать»? Да и можно ли вообще разделить эти категории — умение и желание, квалификация и мотивация — в таком «роде деятельности», как война, где от человека требуется ежеминутно преодолевать основной для всего живого инстинкт самосохранения? Отнюдь не претендуя на то, чтобы подменять судебные органы и давать персональные оценки, постараемся хотя бы ориентировочно оценить масштаб самого явления. Хронологически первым (и, вероятно, самым массовым) видом дезертирства стало уклонение от призыва по мобилизации в первые дни и недели войны. Для читателя, родившегося в послевоенном СССР и воспитанного на бесконечных рассказах о толпах старшеклассников, осаждавших военкоматы, сама подобная формулировка прозвучит как злостная клевета. Однако уже в 1992 г. вполне официальные военные историки, авторы монографии «1941 год: уроки и выводы» назвали такие цифры: «Всего на временно захваченной противником территории было оставлено 5 631 600 человек из мобилизационных ресурсов Советского Союза... в Прибалтийском ОВО эти потери составили 810 844, в ЗапОВО - 889 112, в КОВО-1 625 174 и в Одесском ВО — 813 412 человек...» [3, стр. 114]. Разумеется, далеко не каждый из этих 5,6 млн случаев неявки военнообязанных на призывной пункт следует рассматривать как преднамеренное уклонение от призыва. Сплошь и рядом сам военкомат исчезал раньше, чем к нему успевали прибыть призывники. Но и преувеличивать значение быстрого продвижения вермахта, и уж тем более объявлять это главной причиной многомиллионных потерь призывного контингента не стоит. География с арифметикой в этом вопросе предельно простая. Западный Особый ВО занимал территорию всей Белоруссии и Смоленской области РСФСР. Немцы заняли большую часть этой территории только к концу июля 1941 г. Киевский ОВО — это вся Правобережная Украина и часть левобережья в пределах Киевской области. Немцы появились за Днепром только в сентябре. Одесский ВО — это не только Одесская область, но и Николаевская, Херсонская. Днепропетровская, Запорожская области Украины, Молдавия и Крым. Оккупация этих огромных пространств Причерноморья и Приазовья была завершена только поздней осенью 1941 г. Если нескольких месяцев не хватило для сбора призывников, на который по мобилизационному плану отводились считаные дни, то использование термина «уклонение от призыва» становится вполне уместным и оправданным. Не стоит забывать и о том, что далеко не все прибывшие в военкомат оказались затем в рядах армии. На Восточной, в значительной степени русифицированной, Украине (современная Харьковская область) это «далеко не все» выражалось в таких цифрах: на конец октября 1941 г. процент дезертиров из числа новобранцев составлял 30% по Чугуевскому райвоенкомату, 35% — по Сталинскому, 45% — по Изюмскому. Это — Восточная Украина. По оценкам современных украинских историков, абсолютное большинство мобилизованных на Западной Украине остались на оккупированной немцами территории. Что же касается дезертирства непосредственно из воинских частей, то во второй половине 1941 г. органами НКВД по охране войскового тыла было задержано 638 тыс. человек, заподозренных в дезертирстве. Всего за время войны за дезертирство было осуждено (по данным все того же сборника «Гриф секретности снят») 376 тыс. военнослужащих [35, стр. 140]. Еще 940 тысяч человек было «призвано вторично» [35, стр. 338]. Этим странным термином обозначены те бойцы и командиры Красной Армии, которые по разным причинам «потеряли» свою воинскую часть и остались на оккупированной немцами территории, а в 1943—1944 гг. были повторно поставлены под ружье. Причем среди них обнаружились не только колхозные мужики в солдатских обмотках, но и два генерала: начальник артиллерии 24-й армии Мошенин и командир 189-й сд Чичканов. При этом не следует забывать и о том, что исходное число «потерявшихся» было значительно больше — далеко не каждый смог пережить эти два-три года нищеты, голода, обстрелов, расстрелов, облав и бомбежек... На странице 140 сборника «Гриф секретности снят» суммарное число всех категорий выбывшего личного состава: убитые, умершие, пропавшие без вести, пленные, осужденные и отправленные в ГУЛАГ (а не в штрафбат, который является частью армии), демобилизованные по ранению и болезни и «прочие» — не сходится с указанным на предыдущей странице общим числом «убывших по различным причинам из Вооруженных сил» на 2 343 ООО человек. Сами авторы сборника прямо объясняют такую нестыковку «значительным числом неразысканных дезертиров». Остановить поток беглецов сталинское руководство пыталось единственным известным и доступным ему способом — массовыми расстрелами. Только за неполные четыре месяца войны (с 22 июня по 10 октября 1941 г.) по приговорам военных трибуналов и Особых отделок НКВД было расстреляно 10 201 военнослужащий. Всего же за годы войны только военными трибуналами было осуждено свыше 994 тыс. советских военнослужащих, из них 157 593 человека расстреляно [118, стр. 139]. ДЕСЯТЬ ДИВИЗИЙ расстрелянных! Все познается в сравнении. Немецкий историк Фриц Ган на основании докладных записок, которые командование вермахта подавало Гитлеру, приводит следующие цифры. За три года войны (с 1 сентября 1939 г. по 1 сентября 1942 г.) в многомиллионном вермахте был приговорен к смертной казни 2271 военнослужащий, в том числе 11 офицеров [60]. 2 человека в день. А в Красной Армии в 1941 г. — 92 человека в день. Всего за четыре года войны (с 1.09.39 г. по 1.09.44 г.) в вермахте расстреляли 7810 солдат и офицеров. В двадцать раз меньше, чем в Красной Армии. Нет, это не просто разные цифры, разные количества. Это уже разное качество общества и власти. Война не бывает без потерь, без убитых, без раненых. И без пленных. Никому еще не удавалось так организовать боевые действия, чтобы ни один солдат, ни одно подразделение не оказались в беспомощном состоянии, в окружении, без оружия и боеприпасов. Вот и в вермахте, несмотря на всю немецкую организованность и любовь к порядку, за первые три года Второй мировой войны (до 1 сентября 1942 г.) общее число без вести пропавших и пленных достигло 69 тысяч человек. В среднем — по две тысячи человек каждый месяц. Это — по немецким, возможно, заниженным учетным данным. По данным советского Генерального штаба, за первый год войны (до 1 июля 1942 г.) Красная Армия взяла в плен 17 285 солдат и офицеров противника. Летом 1944 г. в ходе грандиозной и блестяще проведенной наступательной операции советских войск в Белоруссии (операция «Багратион») была практически полностью разгромлена немецкая Группа армий «Центр». Около 80 тысяч военнослужащих вермахта оказались тогда в советском плену. Все познается в сравнении. То, что произошло летом и осенью 1941 г. с Красной Армией, выходит за все рамки обычных представлений. История войн такого не знала. Откроем еще раз статистический сборник «Гриф секретности снят», на этот раз — на страницах 234—246. Там приведены данные о потерях действующих фронтов в 1941 г. Уникальность указанных страниц в том, что цифры (прошу вас, уважаемый читатель, забыть на время о той трагедии, что стоит за этими цифрами, и сосредоточиться на простой и ясной арифметике) убитых и пропавших без вести не объединены в единый массив при помощи лукавой буквы «И», а показаны отдельно. Для большей наглядности сведем имеющуюся информацию в очередную таблицу. 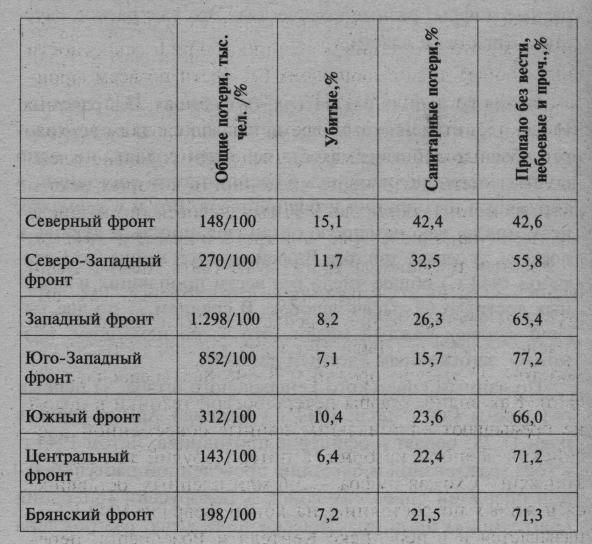 Как видим, за исключением далекого северного фланга войны (Северный фронт), число пропавших без вести в 5—10 раз превосходит число убитых. Или, другими словами, именно массовое пленение и дезертирство являются основной составляющей безвозвратных потерь Красной Армии 1941 г. Ситуация на Северном фронте вполне подходит под определение «исключения, подтверждающего правило». Ни условия местности, ни вооружение нищей финской армии не позволяли ей провести крупные операции по окружению противника. Боевые действия имели характер медленного «выталкивания» частей Красной Армии за линию границы 1939 г. Впрочем, и при этом «выталкивании» в плену у финнов оказалось 64 188 советских солдат [32]. Приведенные выше чудовищные цифры значительно занижены. Реальность была еще страшнее и позорнее. Дело в том, что, по данным сборника «Гриф секретности снят», общее число пропавших без вести по всем фронтам якобы составило в 1941 г. «всего лишь» 2335 тысячи человек [35, стр. 146], в то время как, по сводкам верховного командования вермахта, число одних только пленных (без учета дезертиров, численность которых немцы шать не могли) составило 3886 тыс. человек (в том числе 113 тыс. в июне и 2369 тыс. — в третьем квартале 1941 г.). Военная пропаганда врага? Как знать, немцы были очень аккуратны и сдержанны в этом вопросе. Так, выступая 11 декабря 1941 г. в рейхстаге, Гитлер заявил, что Красная Армия потеряла 21 тысячу танков, 17 тысяч самолетов, 33 тысячи орудий и 3 806 865 военнопленных [115]. Как видно, цифры потерь боевой техники в целом не превышают официальные данные современной российской военной истории, а потери орудий так даже и занижены! Схожая цифра — 3,6 млн пленных, оставшихся в живых по состоянию на конец февраля 1942 г., — называется и в переписке Кейтеля и Розенберга, переписке секретной и для целей пропаганды отнюдь не предназначавшейся [74]. Уже к концу июля 1941 г. поток военнопленных превысил возможности вермахта по их охране и содержанию. 25 июля 1941 г. был издан приказ генерал-квартирмейстера № 11/4590, в соответствии с которым началось массовое освобождение пленных ряда национальностей (украинцев, белорусов, прибалтов). За время действия этого приказа, т.е. до 13 ноября 1941 г., было распущено по домам 318 770 бывших красноармейцев (главным образом украинцев — 277 761 человек) [35, стр. 334]. И советское руководство сочло необходимым как-то отреагировать на такое неслыханное поведение своих подданных. 16 августа вышел знаменитый Приказ Ставки № 270 «О случаях трусости и сдаче в плен и мерах по пресечению таких действий». Для вящей убедительности Приказ № 270 был скреплен подписями Сталина, Молотова, Буденного, Ворошилова, Тимошенко, Шапошникова и Жукова. Едва ли в военной истории цивилизованных стран найдется аналог такому документу: «Приказываю: 1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава. 2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен — уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи... Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах» [6, стр. 479]. Исключительно важным для понимания образа мыслей товарища Сталина является тот факт, что в этом основополагающем приказе он не счел возможным или нужным даже упомянуть о таких высоких мотивах, как «защита завоеваний Октября», «спасение человечества от фашистского варварства». Он не стал говорить ни про Дмитрия Донского, ни про Александра Невского, ни про тысячелетнюю историю России. Просто и без обиняков военнослужащим Красной Армии напомнили о том, что их семьи — если они находятся на территории, контролируемой властью НКВД/ВКП(б)), — являются заложниками их поведения на фронте. Угроза уничтожать сдающихся в плен «всеми средствами, как наземными, так и воздушными» также не была пустым звуком. Осенью 1941 г. советская авиация бомбила лагеря военнопленных в районе Орла и Новгород-Северского. Стоит вспомнить тот общеизвестный факт, что Советский Союз отказался от всякого сотрудничества с Международным Красным Крестом, что сделало невозможным оказание помощи — прежде всего продовольствием и медикаментами — находящимся в немецком плену красноармейцам. Увы, даже такими мерами пробудить воспетую в свое время Ворошиловым «любовь советских людей к войне» не удалось. Красноармейцы продолжали бросать оружие и толпами разбредались по лесам. Не прошло и месяца со дня выхода Приказа № 270, как 12 сентября была принята Директива Ставки № 001919 о создании заградительных отрядов, численностью не менее одной роты на стрелковый полк. В первых строках этой Директивы говорилось дословно следующее: «Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника (подчеркнуто мной. — М.С.) бросают оружие, начинают кричать «нас окружили» и увлекают за собой остальных бойцов. В результате дивизия обращается в бегство, бросает материальную часть и потом одиночками начинает выходить из леса. Подобные явления имеют место на всех фронтах...» [5, стр. 180]. К моменту выхода этой Директивы в немецком плену находилось уже более полутора миллиона бойцов и командиров Красной Армии (1493 тыс. на конец августа). Через два дня после принятия Директивы Ставки № 00191.9, 14 сентября 1941 г., передовые подразделения 1-й и 2-й танковых групп вермахта замкнули кольцо окружения гигантского Киевского «котла». Огромная, полумиллионная группировка советских войск прекратила организованное сопротивление менее чем за одну неделю. Верховное командование вермахта сообщило тогда о захвате 665 тыс. пленных, 3718 орудий и 884 танков. Октябрь 1941 г. начался с окружения главных сил Западного, Резервного и Брянского фронтов (67 стрелковых и 6 кавалерийский дивизий, 13 танковых бригад) в двух крупнейших «котлах» — у Вязьмы и Брянска. По утверждению Верховного командования вермахта, в плен попало 658 тыс. человек, было захвачено 5396 орудий и 1241 танк. Октябрьская катастрофа (списать которую на «внезапность нападения» и пресловутую «неотмобилизованность армии» никак нельзя) по своим масштабам намного превзошла разгром Западного фронта, имевший место в июне 1941 г. Еще одним качественным отличием Вяземского «котла» от «котла» Минского было множество генералов самого высокого уровня, оказавшихся в немецком плену. В их числе: командующий 19-й армией Лукин, командующий 20-й армией Ершаков, член Военного совета 32-й армии Жиленков, командующий 32-й армией Вишневский, начштаба 19-й армии Малышкин, начальник артиллерии 24-й армии Мошенин, начальник артиллерии 20-й армии Прохоров... Наряду с пленными, захваченными в бою (или по крайней мере в боевых порядках советских войск), в первые же недели войны немцы столкнулись и с массой перебежчиков, которые спешили покинуть расположение своей части и сдаться в немецкий плен еще до боя. Для их содержания вермахту пришлось даже создать несколько специальных лагерей. Правда, в докладе Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий сообщается, что число перебежчиков в Красной Армии было совсем малым: «В первый год войны не более 1,4—1,5% от общего числа военнопленных» [74]. Да, в процентном исчислении это почти ничего. Но в абсолютных цифрах — по меньшей мере 40 тыс. человек. Сравнивать это с числом немецких перебежчиков просто невозможно — количество перебежчиков в вермахте за три первых года войны выражалось двузначным числом 29. Само звучание слова «перебежчик» может вызвать в воображении читателя образ человека, бегущего по полю и истошно вопящего: «Нихт шиссен, Сталин капут!» Бывало, разумеется, и так. А бывало и совсем по-другому. Например, 22 августа 1941 г. ушел к немцам майор И. Кононов, член партии большевиков с 1929 г., кавалер ордена Красного Знамени, выпускник Академии имени Фрунзе. Ушел вместе с частью бойцов своего 436-го стрелкового полка (155-я сд, 13-я армия, Брянский фронт), с боевым знаменем и даже вместе с комиссаром (!) полка Д. Панченко. Через год, в сентябре 1942 г., сформированный из военнопленных под командованием Кононова «102-й казачий дивизион» вермахта насчитывал 1799 человек [74, 119]. Десятки летчиков перелетели к немцам вместе с боевыми самолетами. Позднее из них и находившихся в лагерях летчиков была сформирована «русская» авиачасть люфтваффе под командованием полковника Мальцева. Были среди них и два Героя Советского Союза: истребитель капитан Бычков и штурмовик старший лейтенант Антилевский. Да и сам Мальцев в свое время был уже представлен к награждению орденом Ленина, но попал под «колесо» массовых репрессий в 1938 г. [120]. «Казачьи дивизионы» и «русская авиачасть люфтваффе» - это экзотика. Гораздо более надежным, понятным и, как следствие, наиболее массовым способом использования бывших советских людей стало зачисление их в регулярные части вермахта в качестве так называемых «добровольных помощников» (Hilfswillige, или, сокращенно, «Хиви»). Первоначально «хиви» служили водителями, кладовщиками, санитарами, саперами, высвобождая таким образом «полноценных арийцев» для непосредственного участия в боевых действиях. Затем, по мере роста потерь вермахта, русских «добровольцев» начали вооружать. В апреле 1942 г. в германской армии числилось 200 тысяч, а в июле 1943 г. — 600 тысяч «хиви». Особенно много их было в тех частях и соединениях вермахта, которые прошли по Украине и казачьим областям Дона и Кубани. Так, в окруженной у Сталинграда 6-й армии Пау-люса в ноябре 1942 г. было 51 800 «хиви», а в 71, 76 и 297-й пехотных дивизиях этой армии «русские» (как называли всех бывших советских) составляли до 40% личного состава! Летом 1942 г. в 11-й армии Манштейна числилось 47 тысяч «добровольцев». С октября 1943 г. «хиви» были включены в стандартный штат немецкой пехотной дивизии в количестве 2 тыс. человек на дивизию (74, 119, 153, 155-я). В конце концов масштабы этого беспримерного как в истории России, так и в истории Второй мировой войны сотрудничества с оккупантами стали столь велики, что верховным командованием вермахта был создан специальный пост «генерал-инспектора восточных войск». В феврале 1943 г. под началом генерала Кестринга в рядах вермахта, СС и ПВО служило порядка 750 тысяч человек. Такую цифру называют зарубежные историки. С ними вполне согласны и современные военные историки из российского Генштаба: «Численность личного состава военных формирований «добровольных помощников», полицейских и вспомогательных формирований к середине июля 1944 г. превышала 800 тыс. человек...» [35, стр. 385]. Еще одним показателем масштабов массового сотрудничества с фашистскими захватчиками может служить тот факт, что в августе 1945 г. к высылке на «спецпоселение» было приговорено 145 тыс. человек, служивших в «полицаях» и «хиви» [118, стр. 146]. Сто сорок пять тысяч выслано — а сколько ушло на запад с немцами, скольких уничтожили в боях партизаны, скольких расстреляли под горячую руку... Возвращаясь снова к событиям 1941 года и отнюдь не претендуя на абсолютную точность цифр (сама природа таких явлений, как дезертирство и плен, исключает возможность точного, поименного учета), попытаемся оценить общее число пленных и дезертиров. 1 мая 1942 г. начальник организационно-учетного отдела Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии полковник Ефремов подписал справку «О численности Красной Армии, пополнении и потерях за период с начала войны до 1 марта 1942 г.» (опубликована со ссылкой на ЦАМО, ф. 14, оп. 113, д. 1, л. 228-238 в книге С.Н. Михалев. Людские потери в Великой Отечественной войне 1941-1945. Статистическое исследование. Красноярск: РОИ КГПУ, 2000). В этом важнейшем документе приведено много цифр (некоторые из них мы обсудим ниже), а заканчивается он следующими двумя предложениями: «Всего должно быть в Красной Армии с учетом потерь 14 197 000 чел. Фактически, по данным оргштатного управления, на 1 марта 1942 г. в Красной Армии имеется 9 315 000». Точка. Дата. Подпись. Никаких комментариев к без-пестному отсутствию без малого пяти миллионов (4882 1ыс, если быть точным) военнослужащих полковник Ефремов не дает. Что же касается исходного числа в 14 197 тыс. человек, то получено оно было «балансовым мето-¦юм» (в принципе известным каждому школьнику на примере решения задачи про бассейн, в который по одной трубе вливается, из другой выливается), а именно: — к численности Красной Армии на начало войны (которое Ефремов определяет в 4924 тыс. человек) — добавляется общее количество мобилизованных (12 490 тыс., в том числе 11 790 тыс. призванных до конца 1941 г.) — и вычитаются учтенные безвозвратные потери (3217 тыс. человек). Сразу же отметим, что число мобилизованных 41-го года, приведенное в докладе Ефремова, значительно (на 2,2 млн. человек) меньше того, которое назвали авторы монографии «1941 год — уроки и выводы». По их подсчетам, всего до конца 1941 г. было мобилизовано 14 млн. человек. [3. стр. 110]. Суммируя обе составляющие (3217 тыс. учтенных и 4882 тыс. безвестно отсутствующих) безвозвратных потерь, мы получаем общую оценку «убыли» личного состава в восемь миллионов человек. Эта оценка не завышена, в чем можно убедиться через оценку баланса численности личного состава действующей армии. По данным, приведенным в докладе Ефремова, к 1 августа 1941 г. в составе действующих фронтов числилось 3242 тыс. человек, к 1 декабря 1941 г. — 3267 тыс. Как видим, общая численность действующей армии почти не меняется, но при этом военкоматы мобилизуют и передают в состав Вооруженных Сил миллионы людей (от 12 до 14 млн. во втором полугодии 1941 г.). Во внутренних округах (по докладу Ефремова) по состоянию на 1 декабря 1941 г. числилось 4527 тыс. военнослужащих, т.е. их число по сравнению с началом войны увеличилось не более чем на 3 млн. Остальные мобилизованные (порядка 12-3 = 9 млн.) потеряны безвозвратно на фронте. Безвозвратные потери — это убитые, умершие от ран в госпиталях, уволенные из армии вследствие ранения («комиссованные», как говорили в народе). И пропавшие без вести. Ни точного, ни даже ориентировочного распределения безвозвратных потерь по этим категориям в докладе Ефремова нет, но есть одна очень содержательная фраза: «Общее число раненых и контуженых, обмороженных и заболевших (с начала войны) составляет 1 665 ООО, число возвращенных в строй, по данным Сану правления, равняется примерно 1 000 000 чел.». Именно данные по количеству раненых, поступивших на излечение в госпитали, являются (по мнению автора) наиболее достоверными. В глубоком тылу и порядка было больше, и учет был по меньшей мере двойной (как при поступлении, так и при выписке). Исходя из очень постоянного для всех войн XX века соотношения раненых и убитых как 3:1, можно предположить, что числу в 1665 тыс. раненых соответствует порядка 600 тыс. убитых. Стоит отметить, что эта оценка вполне сопоставима с приведенным в сборнике Кривошеева («Гриф секретности снят») числом погибших: по сводкам штабов частей и соединений на 1 марта 1942 г., число убитых (не считая умерших от ран в госпиталях) составило 741 тыс. человек (потери января — февраля 1942 г. здесь рассчитаны как 2/3 потерь первого квартала 1942 г.). [З5, стр. 146]. Один миллион раненых вернулся из госпиталей в строй, 665 тыс. раненых военнослужащих безвозвратно убыли (умерли или демобилизованы по ранению). Таким образом, даже в общей сумме УЧТЕННЫХ (подчеркнем это слово тремя жирными чертами) безвозвратных потерь пропавшие без вести составляют почти два миллиона человек: 3217 - 600 - 665 = 1952. Если принять число убитых по статсборнику Кривошеева, то получится 1811 тыс. И еще 4882 тыс. военнослужащих, пропавших безо всякого следа в донесениях штабов. В общем итоге — более шести с половиной миллионов человек, пропавших неведомо куда. Столько, сколько было в составе действующей армии к началу войны, и еще раз столько. Впрочем, что значит «неведомо куда»? Никаких чудес не было: — 3,8 млн. человек взято немцами в плен — не менее 1,0—1,5 млн. отставших от своей части уклонились и от фронта, и от плена — арифметическая разница в 1,0—1,5 млн. человек — это раненые, брошенные при паническом бегстве, н неучтенные в донесениях с фронта убитые. И что самое удивительное - советские «историки» никогда не считали эти чудовищные факты одной из причин (хотя бы даже самой малозначимой причиной) того, что они деликатно называли «временными неудачами Красной Армии». Плохой маслофильтр на танковых дизелях — это важная причина разгрома, о нем и пишут много, а в амбразурах дотов Киевского УРа стояли заслонки устаревшего образца — и об этом исписаны горы бумаги. А то, что миллионы солдат Красной Армии бросили оружие и разбрелись по лесам, — это мелочи, это к истории войны отношения не имеет... БЕЗ ГОЛОВЫ Таковы факты. Эти факты достоверны, их избыточно много, и в своей совокупности они позволяют утверждать, что главная причина военной катастрофы 1941 года лежит вне сферы проблем оперативного искусства или техники вооружений. В самой краткой формулировке ответ на вопрос о причине поражения может быть сведен к трем словам: АРМИИ НЕ БЫЛО. В начале советско-германской войны на полях сражений встретились не две армии, а организованные и работающие, как отлаженный часовой механизм, вооруженные силы фашистской Германии с одной стороны, и почти неуправляемая вооруженная толпа — с другой. Результат столкновения армии и толпы не мог быть иным. Даже огромное количество первоклассного вооружения не позволит толпе победить армию. И за свое поражение неорганизованная толпа заплатит потерями, намного превосходящими потери армии противника. Именно это и произошло летом 1941 г. К сожалению, такой вывод, простой и ясный, основанный на готовности честно посмотреть в глаза фактам, все еще воспринимается многими читателями как «сенсационный и скандальный». Увы, связь времен распалась, и то, что отчетливо понимали участники и свидетели величайшей трагедии, приходится сегодня «открывать заново». В порядке иллюстрации того, что даже выросшие в дурмане сталинской пропаганды люди первого советского поколения сохраняли способность мыслить ясно и честно (способность, в значительной степени утраченная их детьми и внуками), приведем отрывок из книги М. Корякова «Освобождение души». В 1941 г. автору было 30 лет, войну он начал рядовым, закончил капитаном. После Победы эмигрировал на Запад; книга была издана в Нью-Йорке в 1952 г.: «...Каких-нибудь четыре месяца тому назад Красная Армия стояла на Немане, Буге, Пруте. Прибалтика, Полесье, Волынь, Галиция, Буковина, Бессарабия были оккупированы, присоединены к СССР, «освобождены», по советской терминологии. Наслаждаясь легкими, молниеносными победами, отъедаясь на даровых и обильных оккупационных харчах, бойцы и командиры Красной Армии были настроены залихватски. То была «сталинская молодежь», выращенная в искусственном, оранжерейном климате, полная веры в гений «великого, мудрого и любимого Сталина», в «освободительную миссию Красной Армии», в «непобедимость советского оружия». Началась война... Нестойки оказались росточки веры в Сталина, выращенные в оранжерейном, тепличном климате. Они тотчас завяли, едва на них повеяло жарким, опаляющим дыханием тяжелых и неудачных боев. На протяжении десятилетий большевизм вытравлял в молодом поколении органическую, национальную веру в Россию; теперь напористый ураган войны выдул и веру в Сталина, — в душе советского солдата стало пусто, хоть шаром покати. Так начался разброд Красной Армии. В июле и августе — первые два месяца войны — в действующую армию влились новые контингенты: миллионы крестьян Украины, Северного Кавказа, Поволжья, среднерусской полосы. Не комсомольцы, а тридцатилетние — сорокалетние люди, новый — более глубинный — народный слой, слабо затронутый большевистской пропагандой, идеями «освобождения» Европы, наступательной войны. На памяти этих бойцов лежало другое: как в 1930 году большевики разоряли единоличные — отцами и дедами построенные — хозяйства, отбирали лошадей, коров и насильно загоняли в колхозы; как в 1932 году целые деревни, села и станицы вымирали от голода, зарастали бурьянами, высылались на поселение в полярную тундру, пески Туркестана, концентрационные лагеря Колымы. Новое пополнение принесло на фронт антисоветские настроения, которые сразу нашли отклик у «сталинской молодежи», разгромленной на границах в первые дни войны. Не только отклик, но и четкое оформление — прямую установку на пораженчество. Потеряв веру в Сталина, опустошенные душевно, молодые люди «сталинской эпохи» потянулись к немцам. Появились «нырики», прятавшиеся в погребах, подвалах. Немецкая волна прокатывалась — «нырики» вылезали. Бывшие коммунисты и комсомольцы, как правило, поступали на немецкую службу. Пожилые бойцы переодевались в крестьянскую одежду, подавались ближе к родной деревне, чтобы делить колхозы и заново строить единоличные дворы. Кто не имел поблизости родной деревни, оседал в хате какой-нибудь деревенской вдовушки, солдатской женки. На полях России разыгрывалась большая военная, социальная, политическая, но главное — глубочайшая психологическая народная драма. Неправильно думать, что миллионы русских людей пошли к немцам. Ни к немцам, ни к большевикам, а просто — куда глаза глядят... ...Никто не знал, чем все это кончится. Меньше всего знали в Верховной Ставке, в Кремле. Было очевидно, что и позиция на Ламе — последний водный рубеж перед Москвой — будет вскоре сдана неприятелю. Не потому, что позиция была дурна, непригодна для обороны. Будь она много лучше, отвечай она всем требованиям тактики — теперь это не имело никакого значения. Беда была не в том, что войска отступали, а в том, что войска разбрелись...» Насколько проста и очевидна непосредственная причина разгрома Красной Армии, настолько же сложен и неоднозначен ответ на другой вопрос: ПОЧЕМУ? Почему Красная Армия оказалась в таком бессильном, недееспособном состоянии? Как такое могло произойти в государстве, которое и по сей день представляется многим образцом строжайшего порядка и железной дисциплины? Почему грандиозная военная машина тоталитарной деспотии в считаные дни превратилась в груду хаотично разбросанных «колесиков и винтиков»? Простого и короткого ответа на эти вопросы нет и быть не может. Простая арифметика закончилась, и далее в нашей книге речь пойдет о проблемах, которые, далеко выходя за рамки военной истории как таковой, требуют обращения к социальной психологии, политологии, т.е. к таким наукам, которые в принципе не позволяют прийти к точным, количественным оценкам. Первым в ряду причин, предопределивших ничтожную боеспособность Красной Армии образца июня 1941 г., следует назвать крайне низкое качество ее командного состава. Ветеран войны полковник Т.Г. Ибатуллин в своей книге пишет: «Моральное состояние участника боевых действий зависит от ответа прежде всего на три вопроса: — в чем смысл войны, справедлива и законна ли она? — способен ли мой командир организовать бой так, чтобы с минимальными потерями выполнить задачу? — уверен ли я в своей собственной подготовке к действиям в боевой обстановке?» [74]. Если ответ на первый вопрос определяется политикой, проводимой высшим руководством страны, то ответы на второй и третий вопрос зависят не от «высоких правительственных сфер», а от ротного старшины, от комбата и комдива. Именно они должны превратить толпу вооруженных людей в боеспособную армию. Именно они должны «организовать бой с минимальными потерями», а для этого — денно и нощно обучать своих подчиненных, готовить их к «действиям в боевой обстановке». Уровень профессиональной подготовки командного состава Красной Армии, качество военного обучения рядовых бойцов — все это тема для отдельного, серьезного исследования. Специалисты, которые возьмут на себя труд глубоко и беспристрастно исследовать эту проблему, в огромной степени продвинут нас в понимании того, что произошло в 41-м и последующих годах. Отнюдь не считая себя компетентным в таких, сугубо военных вопросах, автор считает возможным отметить лишь некоторые факты, лежащие, что называется, на поверхности. «Надо быть чрезвычайно невежественным или слепым квасным патриотом, чтобы не признать, что все наши военные средства и наша пресловутая, будто бы бесчисленная армия ничто в сравнении с армией германской». Такие вот «русофобские» мысли высказывал более ста лет назад знаменитый анархист М. Бакунин. Какие же великие достоинства усмотрел он в немецкой армии? А вот какие: «...Немецкий военный мир имеет огромное преимущество — немецкие офицеры превосходят всех офицеров в мире теоретическим и практическим знанием военного дела, горячею и вполне педантическою преданностью военному ремеслу, точностью, аккуратностью, выдержкою, упорным терпением, а также и относительною честностью. Вследствие всех этих качеств организация и вооружение немецких армий существует действительно, а не на бумаге только, как это было при Наполеоне III во Франции, как это бывает сплошь да рядом у нас...» С мнением русского анархиста вполне солидаризировался и немецкий марксист Ф. Энгельс: «...Русский солдат является одним из самых храбрых в Европе... И тем не менее русской армии не приходится особенно хвалиться. За все время существования России как таковой русские еще не выиграли ни одного сражения против немцев, французов, поляков или англичан, не превосходя их значительно своим числом. При равных условиях они всегда были биты...» [122, стр. 480]. Едва ли Ф. Энгельс может считаться военным экспертом, тем паче экспертом беспристрастным (критическое, мягко говоря, отношение Энгельса к России и русским было секретом только для советских коммунистов). Впрочем, и беспристрастные факты свидетельствуют о том, что после триумфа 1812 года Россия с удручающим однообразием демонстрировала неспособность превратить мужество, терпение, выносливость, самоотверженность русского солдата в военную победу. Крымская война, в ходе которой огромной (в теории) русской армии противостоял малочисленный десант западных союзников, закончилась сокрушительным поражением. Таким же сокрушительным — но еще более кровопролитным и дорогостоящим — поражением закончилась война с Японией (1904—1905). Первая мировая война, в ходе которой русская армия понесла людские потери бОльшие, нежели ее западные союзники, закончилась для союзников победой, а для России — цепью тяжелых поражений на фронте, нарастающим экономическим кризисом в тылу, распадом государства и, наконец, «Брестским миром», условия которого мало чем отличались от капитуляции. Одним словом — в военной области большевикам досталось не самое завидное наследство. Мало того, они еще сами поработали над тем, чтобы это «наследство» промотать и растранжирить. Тех кадровых офицеров русской армии, которые не погибли в сражениях Гражданской войны и не успели эмигрировать, большевики истребили почти поголовно. Беспощадно стреляли в 1918—1920 годах; несколько тысяч бывших офицеров арестовали в 1929—1931 гг.; в рамках крупнейшей чекистской операции «Весна»; немногих уцелевших добили в годы Большого Террора 1937—1938 гг. Вот так, с «чистого листа», залитого кровью командиров старой русской армии, Сталин начал готовить новое поколение командных кадров. Будем справедливы — Хозяин старался как только мог. Он холил и лелеял верхушку армии, осыпал ее почестями и привилегиями. Уровень материального и социального комфорта, в котором жили «красные командиры», намного превосходил все, что было доступно высококвалифицированному инженеру или врачу (не говоря уже о нищем колхознике или живущем в фабричном бараке полуголодном рабочем). Затраты были большими. Значительно хуже обстояли дела с результатом. В любой стране и во все века военная карьера была одним из способов, позволяющих парню из простой, бедной семьи «выбиться в люди». Беда в том, что в Советском Союзе этот способ стал едва ли не единственным, а происхождение из семьи «беднейшего крестьянина» стало непременным условием успешной карьеры. В итоге желающих подняться «из грязи в князи», ничего не делая, ничему не учась, ни за что реально не отвечая, а всего лишь согласившись носить казенные сапоги и шинель, стало слишком много. На свою командирскую службу они смотрели как на счастливый лотерейный билет, гарантирующий пожизненный комфорт и беззаботное существование. Увы, на вчерашних деревенских люмпенов, не имевших ни ума, ни образования, ни дворянской чести, ни пролетарской «революционной сознательности», обильная жратва (и еще более обильная выпивка) подействовала совершенно разлагающе. «...Роскошный зал клуба был погружен в полумрак. Большой вращающийся шар, подвешенный к потолку, разбрасывал по залу массу зайчиков, создавая иллюзию падающего снега. Мужчины в мундирах и смокингах и дамы в длинных вечерних платьях или опереточных костюмах кружились в танце под звуки джаза. На многих женщинах были маски и чрезвычайно живописные костюмы, взятые напрокат из гардеробной Большого театра. Столы ломились от шампанского, ликеров и водки... Какой-то полковник пограничных войск кричал в пьяном экстазе: «Вот это жизнь, ребята! Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Так знаменитый чекист-невозвращенец, резидент НКВД в Испании, Орлов (Фельдбин) описывает бал в клубе НКВД, имевший место быть в 1936 г. Разумеется, были и другие командиры, и кричать они пытались совсем о другом. Так, командующий Белорусским военным округом командарм И.П. Белов, побывавший в служебной командировке в Германии, 7 октября 1930 г. писал оттуда Наркому обороны СССР Ворошилову: «...Когда смотришь, как зверски работают над собой немецкие офицеры — от подпоручика до генерала, как работают над подготовкой частей, каких добиваются результатов, болит нутро от сознания нашей слабости. Хочется кричать благим матом о необходимости самой напряженной учебы — решительной переделке всех слабых командиров...» [71, стр. 272]. Белова расстреляли. И не его одного. Подробное рассмотрение причин, замысла и хода Большого Террора выходит далеко за рамки нашего повествования. Отметим лишь несколько моментов, имеющих непосредственное отношение к теме данной главы. Один из самых распространенных мифов состоит в том, что к середине 30-х годов были подготовлены высокопрофессиональные и (что уже совсем необъяснимо) «опытные» военные кадры, и лишь «репрессии 37-го года лишили армию командного состава». Спорить по данному вопросу не о чем. Надо просто знать факты. За два года (1938—1939) Красная Армия получила 158 тысяч командиров, политработников и других военных специалистов. За три предвоенных года (1939—1941-й) военные училища окончили 48 тыс. человек, а курсы усовершенствования — 80 тысяч. В первой половине 1941 г. из училищ и академий в войска было направлено еще 70 тыс. офицеров. Всего на 1 января 1941 г. списочная численность командно-начальствующего состава армии и флота составляла 579 581 человек. Кроме того, за четыре года (с 1937-го по 1940-й) было подготовлено 448 тыс. офицеров запаса [150]. Арестовано же в 1937—1938 г. было (по данным разных авторов) никак не более 10 тысяч командиров и политработников [1, стр. 368]. Что же касается именно погибших в годы репрессий, то наиболее полный поименный перечень, составленный О. Сувенировым, состоит из 1634 фамилий расстрелянных и замученных в ходе «следствия» командиров [149]. Не пытаясь даже в малейшей степени оправдать это тягчайшее преступление и обелить руководителей и непосредственных исполнителей кровавого террора, следует все же признать тот очевидный факт, что если бы все погибшие остались в живых, то общее число командиров Красной Армии выросло всего лишь на 0,3 процента. Весьма скромный некомплект командного состава (13% на 1 января 1941 г.) был обусловлен вовсе не репрессиями, а троекратным за три года ростом численности и огромным ростом технической оснащенности Вооруженных сил. Наконец, следует в очередной раз вспомнить о том, что пресловутый «некомплект» — это всего лишь несоответствие фактической и штатной численности. А штатные расписания могут быть самые разные. Например, в вермахте на одного офицера по штатным нормам приходилось 29 солдат и унтер-офицеров, во французской — 22, в японской — 19. И только в Красной Армии предполагалось наличие одного офицера (политработника) на 6 солдат и сержантов [1, стр. 365]. Нельзя сказать, чтобы от такого «избытка» командиров в Красной Армии стало больше порядка. «Я воевал в войну 1914—1917 годов, — писал 10 июля 1942 г. секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову командир 141-й сд полковник Тетушкин. — В штабе полка были двое: командир полка и адъютант, в штабе дивизии трое-четверо — и все. Теперь у нас на КП командира полка — десятки людей, на КП командира дивизии — сотни, а в армии или на фронте я даже не могу сказать, там — тучи. Причем все они ездят на машинах, приезжает, привезет какую-нибудь писульку и завалится спать при этом штабе на неделю. А у противника штат тылов и штабов минимум раз в десять меньше нашего...» Ни на чем, кроме голословных утверждений, не основан и тезис о том, что в 37-м году «расстреляли самых лучших, а на их место назначили бездарей и проходимцев». Если судить по такому формальному критерию, как уровень образования, то с 1937 по 1941 г. число офицеров с высшим и средним военным образованием не только не сократилось, но значительно (в два раза) выросло. Со 164 до 385 тыс. человек. На должностях От командира батальона и выше доля комсостава без военного образования составляла накануне войны всего лишь 0,1% [1, стр. 366]. Среди командиров дивизий по состоянию на 1 января 1941 г. высшее военное образование имело 40%, среднее военное — 60%. Среди командиров корпусов соответственно 52 и 48% [68]. Другой вопрос — каков был «коэффициент полезного действия» этого обучения, если в Военную академию им. Фрунзе принимали командиров с двумя классами церковно-приходской школы. К сожалению, в этих словах нет преувеличения. Именно с таким «образованием» поднялись на самый верх военной иерархии Нарком обороны Ворошилов и сменивший его на посту Наркома Тимошенко, командующий самым мощным, Киевским военным округом Жуков и сменивший его на этом посту Кирпонос. На таком фоне просто неприлично интеллигентно смотрится предшественник Жукова на должности начальник Генштаба Мерецков — у него было четыре класса сельской школы и вечерняя школа для взрослых в Москве. К слову говоря, точно такая же ситуация была и в гражданской администрации. В середине 30-х годов среди секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) 70% имели лишь начальное образование. Наркомом оборонной (а затем и авиационной!) промышленности трудился М.М. Каганович, в биографии которого вообще не обнаруживаются следы какого-либо образования. Приведем еще один пример из более позднего периода. В апреле 1948 г. среди 171 военного коменданта в Восточной Германии (а на такую должность, надо полагать, подбирались наиболее «солидные» во всех отношениях офицеры) 108 человек обладали лишь начальным образованием, средним — 52 и только 11 офицеров имели высшее образование [74, стр. 65]. Отнюдь не репрессии 37-го года стали причиной такого прискорбного положения дел. Привлечение полуграмотных, но зато «социально близких» кадров было основой кадровой политики и в 20-х, и в 30-х, и в 40-х годах. Почему-то принято забывать о том, что немалое число так называемых «опытных военачальников, героев Гражданской войны» благополучно пережили 37-й год и встретили год 41-й в самых высоких званиях. Это Нарком обороны маршал Тимошенко, его заместители маршалы Буденный и Кулик, председатель Комитета обороны при СНК СССР маршал Ворошилов, командующий Московским военным округом (с начала войны — Южным фронтом) генерал армии Тюленев, главком кавалерии генерал-полковник Городовиков... Все они — люди того же поколения, той же политической и жизненной школы, что и репрессированные Блюхер, Егоров, Тухачевский, Дыбенко, Федько. Все они так «славно» проявили себя, что уже через полгода-год после начала войны Сталину пришлось отправить их, от греха подальше, в глубокий тыл. На завершающем, победном этапе войны этих горекомандиров в действующей армии уже мало кто и помнил. Почему же, зная о том, как проявили себя уцелевшие, мы продолжаем строить иллюзии по поводу расстрелянных? Почему принято считать, что расстрел Тухачевского деморализовал армию в большей степени, нежели массовые расстрелы тамбовских крестьян, произведенные летом 1921 г. по приказам самого Тухачевского? Наконец, были ли сами «жертвы 37-го года» мужественными полководцами (а для военачальника отсутствие личного мужества является не чем иным, как признаком профнепригодности) или всего лишь ожиревшими чиновниками военного ведомства? Среди нескольких сотен высших командиров армии и НКВД (а у каждого из них была охрана, личное оружие, секретная агентура) не нашлось ни одного, кто решился бы поднять «микромятеж» или хотя бы оказать вооруженное сопротивление при аресте. На пассивное сопротивление (побег) дерзнуло лишь несколько человек (убежали за кордон начальник Дальневосточного НКВД Люшков и резидент НКВД в Испании Орлов, несколько месяцев скрывался в бегах главный чекист Украины Успенский). Все остальные покорно несли свою голову на плаху, исправно «обличали и разоблачали» своих арестованных товарищей, в лучшем случае — пускали себе пулю в лоб. Командарм 1 ранга, командующий войсками Киевского округа И. Якир, приговоренный к расстрелу за преступления, которые он заведомо не совершал, из тюремной камеры писал Сталину: «Родной, близкий товарищ Сталин! Я умираю со словами любви к Вам...» 2 июня 1937 г., выступая на заседании высшего Военного совета, Сталин сказал по поводу застрелившегося начальника Главного политуправления Красной Армии Я. Гамарника: «Я бы на его месте попросил свидания со Сталиным, сначала уложил бы его, а потом бы убил себя». Что стояло за этими словами? Глумление? Провокация? Крик измученной души человека, которого утомило общение с ничтожными людишками? Как известно, в Вооруженных силах Германии ничего подобного репрессиям против высшего комсостава Красной Армии не было — и это в то время, когда Германия переживала радикальную смену правящих элит. И это при том, что высший генералитет позволял себе откровенное фрондерство по отношению к ефрейтору, ставшему Верховным главнокомандующим. Была ли невероятная (по меркам товарища Сталина) терпимость, проявленная Гитлером, проявлением мудрой предусмотрительности — или же командный состав вермахта просто не позволял «фюреру» обращаться с собой иным способом? Разумеется, негативное влияние массовых репрессий на боеспособность Красной Армии было, и оно было огромным. Массовые репрессии, массовое доносительство, массовое превращение вчерашних героев во «врагов народа, презренных шпионов и вредителей» подрывало основу основ армейской морали: безоговорочный авторитет командира. Армия держится на единоначалии, но это единоначалие нельзя обеспечить только предусмотренным Уставом правом командира на «применение силы и оружия» по отношению к неповинующемуся подчиненному. На поле боя страх перед командиром будет немедленно сметен страхом перед вооруженным противником. Подчиненный должен уважать своего командира, верить в то, что тот способен «организовать бой так, чтобы с минимальными потерями выполнить задачу». О каком доверии можно было говорить в армии, в которой военачальника любого ранга можно было превратить в «лагерную пыль» одним анонимным доносом... Самым же парадоксальным феноменом Красной Армии следует признать то, что даже жесточайшие репрессии ни на йоту не способствовали наведению разумного порядка, дисциплины и минимальной организованности. «Совершенно секретно. Приказ НКО № 0049 от 17 сентября 1940 г. ...Проверкой установлено, что в ряде штабов, благодаря грубейшим нарушениям приказов НКО, совершен ряд преступлений в отношении учета и хранения секретных документов... 1. Начальник штаба Барабашского укрепрайона майор К. оставил открытым и допечатанным сейф с документами особой важности, который в таком положении оставался на протяжении 10 суток. Порядок в штабе Барабашского УР настолько безобразный, что никто из офицеров штаба, в том и числе и дежурные по штабу, на протяжении 10 дней не приняли мер к закрытию и опечатыванию сейфа. (Необходимо пояснить, что в данном случае слова «особой важности» — это не эпитет, а термин. К разряду «особой важности» по принятой в Красной Армии классификации относились наиболее секретные документы из числа «совершенно секретных». Была разработана строжайшая инструкция на 15 страницах о порядке составления и хранения документов «особой важности». В частности, эти документы не разрешалось передавать даже старшим по званию и должности — только лично в руки тому, кому данный документ был адресован. Документ должен был быть написан лично от руки «на твердой подложке, не оставляющей оттиска от пера», все черновики и промокательная бумага должны уничтожаться по акту, документ должен был храниться в опечатанном сейфе, находящемся в комнате с опечатываемой же железной дверью и стальными решетками на окнах...) 2. Штабом 135 стрелковой дивизии при убытии к новому месту расквартирования оставлены никому не переданные и никем не охраняемые (в открытом деревянном шкафу в кладовке стойматериалов) мобилизационные документы. 3. В частях и соединениях Забайкальского военного округа выявлена недостача 59 секретных и совершенно секретных документов...» «Совершенно секретно. Приказ НКО № 0031 от 31 мая 1941 г. ...в 23-й авиационной дивизии (Московский ВО. — М.С) до 10 мая отсутствовал авиабензин, в результате чего самолеты оставлялись на несколько недель неспособными подняться в воздух... Боевые авиабомбы были брошены на разгрузочной площадке железной дороги, где пролежали под снегом полтора месяца... ...в 24-й истребительной авиадивизии (Московский ВО) с октября 1940 г. и до последнего времени не проведено ни одного учения по взаимодействию со средствами ПВО, не проведено ни одной тревоги с вылетом истребителей, управление истребителями в воздухе с КП ПВО совершенно не отработано...» «Совершенно секретно. Доклад сотрудника Главного контрольного управления Комитета Обороны при СНК СССР тов. Семина на имя Председателя СНК тов. Молотова от 9 июля 1940 г. ...17 июня нами обнаружена 235-я отдельная строительная рота, которая в течение 3 месяцев бездельничала, т.е. ничего не строит и никаких занятий с бойцами не проводит. При подробном ознакомлении выяснилось, что о существовании этой роты штаб Ленинградского ВО не знал и никаких задач ей не давал. 19 июня между Выборгом и Те-риоки в 300 м от Выборгского шоссе нами также был обнаружен 1-й аэродромно-строительный батальон (430 человек), который также в течение 3 месяцев ничего не делает... Несмотря на то, что батальон располагается на берегу озера, все красноармейцы, командиры и особенно комиссар тов. Ц. исключительно грязные... ...На вокзалах г. Ленинграда, особенно на Московском и Финляндском, очень много красноармейцев, отставших от своих частей (война с Финляндией закончилась 13 марта, т.е. за четыре месяца до дня составления этого доклада. — М.С.) ходят грязные, небритые и в зимнем обмундировании...» Теперь от сухой строки документов перейдем к весьма красочно написанным мемуарам: «...Началась подготовка. Для своего отделения я подобрал одиннадцать статных молодцов — красноармейцев ростом от 175 до 180 сантиметров. И приступили... Строевая подготовка, политзанятия, чистка оружия и прогулка в строю по окрестным дорогам, с песнями... И так каждый день, в течение целого месяца... Одно лишь смущало: не слишком ладно в сравнении с другими владел я командным голосом. Не получалось это: «Ррр — ясъ, ррр — ясь, рясь, а — а, три — и — и...» Или «Пады — ы — майсь!..» Нет, такого у меня не получалось. И тогда я решил действовать по Демосфену: регулярно стал удаляться в сопки и там кричать! Именно кричать — что есть силы, громко, ошалело, потом декламировать стихи, выкрикивать команды, отдельные слова, петь... ...После блестящей победы в строевой подготовке у меня появилась новая забота. Теперь к командующему предстояло являться всякий раз «по всей форме». А это значит — при сабле и со шпорами. Опять проблема! Саблю я раз надел да чуть не упал: запуталась она у меня между ног... Чтобы держать марку лучшего строевика, мне предстояло еще немало поработать самому, и каждое утро у себя в кабинете я добросовестно тренировался...» Уважаемый читатель, как вы думаете — о чем ЭТО? Это дважды Герой Советского Союза, замечательный летчик-истребитель, маршал авиации Е.Я. Савицкий с восторгом рассказывает в своих мемуарах о том, как весной 1941 г., когда до начала войны оставались считаные дни, он потратил целый месяц на освоение это самого «ррр — ясь, ррр — ясь, рясь, а — а, три — и — и...». А какую должность занимал весной 1941 г. 28-летний капитан Савицкий? Отвечаем — командовал 29-й истребительной авиадивизией. А кто тот идиот — другое слово подобрать не удается, — который весной 1941 г. отвлекает командира авиационной дивизии на конкурс строя и песни, а потом еще и требует ходить по аэродрому в шпорах и с саблей? Это командующий Дальневосточным фронтом, герой Гражданской войны, генерал армии Апанасенко. Говорят, один из лучших сослуживцев Буденного и Тимошенко... Разумеется, наряду с идиотами были в Красной Армии и талантливые, ответственные командиры, которые «зверски работали над собой» и использовали каждый час для боевой подготовки вверенных им частей. Если бы таких командиров не было, то немцы дошли бы от Бреста до тех дальневосточных сопок, среди которых капитан Савицкий (не по своей, правда, воле) кричал: «Пады — ы — майсь!» В предыдущих главах многократно говорилось о 1-й противотанковой артиллерийской бригаде, которая среди общего хаоса и панического отступления сдерживала продвижение немецких танков на Луцк — Ровно. Открывая мемуары маршала К.С. Москаленко, бывшего командира 1-й ПТАБ, мы обнаруживаем, что успешные боевые действия бригады не были результатом случайного везения — в бригаде был командир, который готовил своих подчиненных не к конкурсу строевой песни, а к войне: «...Расписание должно было предусматривать уплотненную боевую подготовку: по 8—10 часов в день, а также 2—3 ночных занятия в неделю... Красноармейцы и младшие командиры от подъема до отбоя видели рядом с собой своих непосредственных начальников. Командиры и политработники всех рангов учили личным примером, по очень простому, но всегда оправдывающему себя методу «делай, как я»... ...Занятия по огневой подготовке сменялись маршами, полевыми учениями с большим количеством вводных, отрыв-кой окопов, сменой огневых позиций и боевыми стрельбами. Учеба велась днем и ночью, при любой погоде... Бойцы и командиры убедились в мощности своих орудий, в том, что броня современных немецких танков в случае их нападения наверняка будет пробиваться нашими снарядами. Уверенность в этом, появившаяся после того, как орудийные расчеты начали действовать слаженно, поражая без промаха цели на стрельбищах, имела исключительно важное значение. Ведь первое условие успеха в бою — вера в свои силы...» И что совсем уже удивительно — в бригаде Москаленко обнаружились и бронебойные 76-мм снаряды («мы были полностью обеспечены снарядами, в том числе бронебойными»). Как на другой планете — в танковых дивизиях ударных мехкорпусов 76-мм бронебойных снарядов нет вовсе, генералы пишут (а современные историки с готовностью переписывают) жалостные отчеты об отсутствии бронебойных снарядов, а у Москаленко и снаряды есть, и мишени, и стрельбища... Остается только добавить, что формирование 1-й ПТАБ началось в начале мая 1941 г., и времени на боевую подготовку было меньше двух месяцев. А в сотне километров от места расположения 1-й ПТАБ развертывались другие соединения, командиры которых писали потом в своих докладах: «...Гаубичный артиллерийский полк не успел провести ни одной стрельбы из орудий... Личный состав не был подготовлен к стрельбе в полевых условиях... Не было учебных пособий и экспонатов... Полковая артиллерия послана в полки почти вся неисправная... Зенитная артиллерия имела крайне ограниченное количество снарядов... Артиллерийский полк находился в составе 12 орудий без панорам... Личный состав мотоциклетного полка не обучен, даже ни разу не стрелял...» Непостижимой уму особенностью тоталитарного сталинского режима оказалось полное отсутствие единого, всеобщего порядка — хотя само слово «тоталитарный» предполагает унификацию и единообразие. Вероятно, мы не сильно ошибемся, предположив, что всеобщим и универсальным в империи Сталина (и в Красной Армии, как ее важнейшей составной части) был беспорядок, лишь в ряде счастливых случаев нарушаемый порядком. Причем порядок этот обеспечивала не государственная система власти и управления, а личный энтузиазм, личная добросовестность, личная инициатива отдельных командиров. На рассвете 22 июня 1941 года началась война. Не очередной «освободительный поход», а настоящая, большая война. И вот тут-то товарищу Сталину пришлось столкнуться с ошеломляющей неожиданностью — оказалось, что многие его генералы, полковники и подполковники даже не задумывались о том, что за право есть, пить и не работать профессиональный военный должен платить — платить готовностью в любой момент отдать свою жизнь за ту страну, которая и подарила ему эти права и привилегии. «...24 июня в районе Клевани мы собрали много горе-воинов, среди которых оказалось немало и офицеров. Большинство этих людей не имели оружия. К нашему стыду, все они, в том числе и офицеры, спороли знаки различия. В одной из таких групп мое внимание привлек сидящий под сосной пожилой человек, по своему виду и манере держаться никак не похожий на солдата. С ним рядом сидела молоденькая санитарка. Обратившись к сидящим (сидящим перед генералом. — М.С.), а было их не менее сотни человек, я приказал офицерам подойти ко мне. Никто не тронулся. Повысив голос, я повторил приказ во второй, третий раз. Снова в ответ молчание и неподвижность. Тогда, подойдя к пожилому «окруженцу», велел ему встать. Затем спросил, в каком он звании. Слово «полковник» он выдавил из себя настолько равнодушно и вместе с тем с таким наглым вызовом, что его вид и тон буквально взорвали меня. Выхватив пистолет, я был готов пристрелить его тут же, на месте. Апатия и бравада вмиг схлынули с полковника. Поняв, чем это может кончиться, он упал на колени и стал просить пощады...» Это отрывок из мемуаров маршала Рокоссовского. На третий день войны группа бывших командиров 5-й армии Юго-Западного фронта уже успела не только бросить оружие, но и спороть знаки различия. Стоит ли обобщать отдельные позорные эпизоды? Конечно, не стоит. Надо просто ознакомиться с подписанным 26 июля 1941 г. приказом № 044 командующего Северо-Западным фронтом генерал-лейтенанта Собенникова: «В ряде частей фронта некоторые командиры и политработники грубо нарушают элементарные основы дисципличы Красной Армии. Они не соблюдают установленной формы одежды, не имеют на шинелях и гимнастерках петлиц, нарукавных знаков и знаков различия... Приказываю: 1. Командирам и военным комиссарам соединений и частей обязать всех командиров и политработников, под их личную ответственность, в трехдневный срок нашить на шинели и гимнастерки петлицы, нарукавные знаки и знаки различия. Военкому Северо-Западного фронта обеспечить соединения и части всеми необходимыми эмблемами. 2. Впредь всех лиц начсостава, допускающих нарушения формы одежды, снявших знаки различия, рассматривать как трусов и паникеров, бесчестящих высокое звание командира Красной Армии, и привлекать их к суровой ответственности, вплоть до предания суду военных трибуналов. 3. Командирам и военным комиссарам соединений и частей довести до сознания всех командиров и политработников абсолютную недопустимость подобных нарушений формы одежды, а к нарушителям создать нетерпимое отношение со стороны командирской общественности» [195]. Приказ беспрецедентный, причем не только по содержанию, но и по форме. В нормальной, воюющей, армии в подобном приказе должны были быть названы конкретные фамилии тех нескольких мерзавцев из числа командного состава, которые были расстреляны по приговору военного трибунала за то, что в боевой обстановке спороли знаки различия. Но, как явно следует из приказа командующего С-3. ф., позорное явление достигло таких масштабов, что расстрелять всех «беспогонных офицеров» уже не представляется возможным. Не представляется даже возможным нашить споротые петлицы быстрее, чем за три дня. Более того, генерал Собенников в своем приказе стыдливо называет фактическую подготовку к дезертирству и сдаче в плен врагу всего лишь «нарушением формы одежды»! За шесть месяцев 1941 г. в плену оказалось шестьдесят три генерала. А всего за время войны — 79 генералов (мы не стали причислять к этому перечню генералов А.Б. Шистера, М.О. Петрова, Ф.Д. Рубцова, И.А. Ласкина, Ф.А. Семеновского, которые находились в плену всего несколько часов или дней). Разумеется, плен плену рознь. Автор совершенно не призывает мазать всех одним дегтем. Многие генералы (Лукин, Карбышев, Ткаченко, Шепетов, Антюфеев, Любовцев, Мельников и другие, всего порядка двадцати человек) были захвачены противником ранеными, в беспомощном состоянии. Многие из тех, кто оказался в плену, в дальнейшем отвергли попытки врага склонить их к сотрудничеству и были расстреляны или замучены гитлеровцами. Так погибли генералы Алавердов, Ершаков, Карбышев, Макаров, Никитин, Новиков, Пресняков, Романов, Сотенский, Старостин, Ткаченко, Тхор, Шепетов. Несколько человек (генералы Алексеев, Огурцов, Сысоев, Цирульников) бежали из плена, перешли линию фронта или примкнули к партизанским отрядам [20, 124]. Все это — правда. Другая часть горькой правды состоит в том, что большая часть плененных генералов забыла о том, что личное оружие было выдано им не только для того, чтобы гнать в бой подчиненных. Нынешним гуманистам, призывающим войти в «тяжелое положение беззащитных генералов», следовало бы вспомнить о том, что каждый сдавшийся врагу командир губил тем самым тысячи своих солдат, отдавал фашистам на растерзание сотни тысяч мирных жителей. И мера ответственности за разгром армии и разорение страны для мобилизованного колхозного мужика и осыпанного всеми благами жизни генерала (которого государство наделило правом распоряжаться жизнью и смертью тысяч таких мужиков) должна, безусловно, быть разной. За добровольную сдачу в плен и сотрудничество с оккупантами после войны было расстреляно или повешено двадцать три бывших генерала Красной Армии (и это не считая тех, кто получил за предательство полновесный лагерный срок). Среди них были и командиры весьма высокого ранга: — начальник оперативного отдела штаба Северо-Западного фронта Трухин; — командующий 2-й Ударной армией Власов; — начальник штаба 19-й армии Малышкин; — член Военного совета 32-й армии Жиленков; — командир 4-го стрелкового корпуса (Западный фронт) Егоров; — командир 21-го стрелкового корпуса (Западный фронт) Закутный; — командир 27-го стрелкового корпуса (Юго-Западный фронт) Артеменко. Да, десять человек из числа казненных генералов были в конце 50-х посмертно реабилитированы. Но при этом не следует забывать, что реабилитации 50-х годов проводились по тем же самым правилам, что и репрессии 30-х. Списком, безо всякого объективного разбирательства, по прямому указанию «директивных органов»... Весьма показательной как для оценки порядка расследования дел пленных генералов, так и для понимания умонастроений высшего командного состава Красной Армии образца 1941 г., может служить судьба генерал-лейтенанта М.Ф. Лукина. Выдающийся полководец, герой сражений у Шепетовки, Смоленска и Вязьмы, он был захвачен в плен после тяжелого ранения, в бессознательном состоянии (в немецком госпитале ему ампутировали ногу). В ходе спецпроверки были выявлены какие-то факты его «антисоветской деятельности», но 31 августа 1945 г. в докладе на имя Сталина начальник «Смерш» Абакумов написал: «Учитывая, что в результате ранения он остался калекой, считал бы целесообразным освободить и обеспечить агентурным наблюдением» [124]. В дальнейшем генерал Лукин медленно, но верно стал превращаться в плакатный образец несгибаемого героя, который, оказавшись в немецком плену, «с презрением отверг все посулы и угрозы врага». Лукин был награжден орденом Ленина (1946 г.), двумя орденами Красного Знамени (1946, 1947 гг.), орденом Красной Звезды (1967 г.). Ему было присвоено звание «Почетный гражданин Смоленска», и его именем названа улица в этом городе. Появилась и побежала из публикации в публикацию легенда о том, как Сталин сказал вернувшемуся из плена генералу: «Спасибо за спасение Москвы». Наконец, в 1993 г. генералу Лукину было посмертно присвоено звание Герой России. К этому времени и был переведен на русский язык и опубликован давно уже известный западным историкам протокол допроса от 14 декабря 1941 г., в ходе которого пленный генерал Лукин вел с немцами такие беседы: «...Коммунисты пообещали крестьянам землю, а рабочим — фабрики и заводы, поэтому народ поддержал их. Конечно, это было ужасной ошибкой, поскольку сегодня крестьянин, по сравнению с прошлым, не имеет вообще ничего, а средняя зарплата рабочего 300—500 рублей в месяц, на которую он ничего не может купить. Когда нечего есть и существует постоянный страх перед системой, то, конечно, русские были бы очень благодарны за ее разрушение и избавление от сталинского режима.... Если будет все-таки создано альтернативное русское правительство, многие россияне задумаются о следующем: во-первых, появится антисталинское правительство, которое будет выступать за Россию, во-вторых, они смогут поверить в то, что немцы действительно воюют только против большевистской системы, а не против России, и в-третьих, они увидят, что на вашей стороне тоже есть россияне, которые выступают не против России, а за Россию. Такое правительство может стать новой надеждой для народа... Если Буденный и Тимошенко возглавят восстание, то тогда, возможно, много крови и не прольется. Но и они должны быть уверены в том, что будет Россия и российское правительство... Новая Россия не обязательно должна быть такая, как старая. Она может даже быть без Украины, Белоруссии и Прибалтики (разумеется, речь шла не о предоставлении независимости, а о передаче этих частей сталинской империи под немецкую оккупацию. — М.С.), будучи в хороших отношениях с Германией...» [173]. Судя по его реальным действиям, товарищ Сталин достаточно быстро понял, что в довоенные годы он крупно ошибся в деликатном деле подбора, расстановки и истребления кадров, и очень старался исправиться. Но как? Подобно заключенному в тюрьме, обшаривающему всю камеру в надежде найти затерявшийся окурок, он все тасовал и перетасовывал генералов в надежде найти, наконец, того, кто совершит чудо, «превратит камни в хлеба» и заставит нищих колхозников воевать за «родную партию и ее великого вождя». За первые четыре месяца войны на главном стратегическом направлении командующего Западным фронтом поменяли семь раз (Павлов, Еременко, Тимошенко, снова Еременко, снова Тимошенко, Конев, Жуков). Командующего 21-й армией (на том же самом западном направлении, за тот же срок) меняли шесть раз (Герасименко, Кузнецов Ф.И., Ефремов, Гордов, другой Кузнецов В.И., снова Гордов). Немногим лучше обстояли дела у соседей 21-й армии. Пять командиров в 20-й армии (Ремезов, Курочкин, Лукин, Ершаков, Власов), четыре командира в 13-й (Филатов, Ремезов, Голубев, Городнянский), по три командира сменилось за лето-осень 1941 г. в 19-й и 22-й армиях. Командармы появлялись и исчезали, не успевая даже познакомиться со своими новыми подчиненными. Довольно быстро в этой чехарде выработалось некое универсальное правило. Оно не требовало ни знакомства с подчиненными, ни разведки противника, ни знания военной техники. Оно полностью заменяло собой все тонкости тактики и оперативного искусства. Оно гремело и грохотало по всем штабам, окопам и блиндажам. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ! А в довесок к этому правилу — лукавое самооправдание: «Война все спишет». Все и списали. Или даже возвели в образец «несгибаемого мужества и героизма». Как, например, печально-знаменитый «Невский пятачок». А ведь это действительно ярчайший образец. Только чего? Осенью 1941 г., после установления блокады Ленинграда, в наших руках остался крохотный плацдарм на левом (южном) берегу Невы. Клочок земли площадью 2 на 3 км. Удержание плацдарма (пусть даже и ценой больших потерь) имеет оперативный смысл только в том случае, если с его территории планируется в ближайшее время начать наступление крупными силами. Плацдарм в переводе с французского как раз и означает «место для армии». На «Невском пятачке» можно было развернуть стрелковый батальон, от силы — полк. Да и прорывать кольцо окружения предстояло главным образом ударом извне, а не со стороны умирающего от голода города. «Невский пятачок» не мог играть (и фактически не сыграл) никакой существенной роли при прорыве блокады в январе 1943 г. Тем не менее этот «плацдарм» приказано было удержать. Любой ценой. Его и удерживали. 400 дней подряд. Немецкая артиллерия простреливала каждый метр этой огромной братской могилы. Общее количество истребленных на том проклятом месте солдат оценивается разными исследователями от 50 до 100 тыс. человек... Скажем честно — порой даже высшее руководство Красной Армии выражало свое возмущение такой практикой растранжиривания «людских контингентов». Сам Сталин как-то раз потребовал от своих генералов «научиться воевать малой кровью, как это делают немцы» (телеграмма командованию Юго-Западного направления от 27 мая 1942 г.). И даже кровавый маршал Жуков (в ту пору — командующий Западным фронтом) подписал 30 марта 1942 г. директиву, которая начиналась такими словами: «В Ставку Верховного Главнокомандования и Военный совет фронта поступают многочисленные письма от красноармейцев, командиров и политработников, свидетельствующие о преступно халатном отношении к сбережению жизней красноармейцев пехоты. В письмах и рассказах приводятся сотни примеров, когда командиры частей и соединений губят сотни и тысячи людей при атаках на неуничтоженную оборону противника и неуничтоженные пулеметы, на неподавленные опорные пункты, при плохо подготовленном наступлении. Эти жалобы, безусловно, справедливы и отражают только часть (выделено мной. — М.С.) существующего легкомысленного отношения к сбережению пополнения...» [117, стр. 238]. Увы, толку от таких директив было мало — прежде всего потому, что сам Жуков и его ближайшие соратники и до и после отдания этой директивы губили людей десятками и сотнями тысяч «при плохо подготовленном наступлении». Вот как описывает в своих воспоминаниях полковник А. К. Кононенко визит заместителя командующего Западным фронтом (т.е. заместителя Жукова) генерала Г.Ф. Захарова в штаб легендарного 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса Белова: «...Злоба туманила его и так не весьма ясный рассудок. Захаров говорил, то повышая тон, то снижая его до шепота с каким-то змеиным присвистом, злоба кипела и клокотала в нем... «Меня прислали сюда, — сказал Захаров, — чтобы я заставил выполнить задачу любыми средствами, и я заставлю вас ее выполнить, хотя бы мне пришлось для этого перестрелять половину вашего корпуса. Речь может идти лишь о том, как выполнить задачу, а не о том, что необходимо для ее выполнения»... Он по очереди вызывал к телефону командиров полков и дивизий, атаковавших шоссе, и, оскорбляя их самыми отборными ругательствами, кричал: «Не прорвешься сегодня через шоссе — расстреляю!» Он приказал судить и немедленно расстрелять пять командиров, бойцы которых не смогли прорваться через шоссе... Этот человек, который по ошибке стал военачальником, природой предназначался на роль палача или пациента нервно-психиатрической клиники...» [163]. Коммунистические историки-пропагандисты заблаговременно успели сочинить для Жуковых и Захаровых очень благозвучное оправдание: «Страна была на грани гибели, решались судьбы всего мира, вынужденная безжалостность к своим солдатам была оправданна и необходима...» Звучит красиво. Вероятно, настало время задаться встречным вопросом — а не эта ли бездумная безжалостность командования подтолкнула миллионы солдат к дезертирству и сдаче в плен врагу? Не она ли поставила страну на грань гибели? Да и не скрывались ли за этой озабоченностью «судьбами мира» другие, гораздо более низменные мотивы? Возьмем еще два документа. Это приказы маршалов Конева и Жукова, отданные в один и тот же день апреля 1945 г. Страна уже не стояла на грани гибели. Она была на пороге величайшего триумфа. Не только «судьбы мира», но и послевоенные границы в Европе уже были начерчены и согласованы в Тегеране и Ялте. В такой обстановке 20 апреля Конев пишет приказ: «Командующим 3-й и 4-й гв. танковыми армиями. Войска маршала Жукова в 10 км от восточной окраины Берлина. Приказываю обязательно сегодня ночью ворваться в Берлин первыми. Исполнение донести...» Приказ Жукова был чуть подробнее: «Командующему 2-й гв. танковой армией. Пошлите от каждого корпуса по одной лучшей бригаде в Берлин и поставьте им задачу: не позднее 4 часов утра 21 апреля любой ценой прорваться на окраину Берлина и немедля донести для доклада т. Сталину и объявления в прессе...» [74]. Зачем посылать всего лишь по одной бригаде от корпуса? А так быстрее удастся «донести для доклада т. Сталину» и войти в историю, как «великому маршалу победы». Почему быстрее? Потому что корпуса и танковая армия в целом «отягощены» артиллерией, саперными подразделениями, мотопехотой. Они тормозят движение. Поэтому две лучшие бригады Жуков заведомо посылает на убой. Зачем? Для «объявления в прессе»? Бездушное и безжалостное расходование «живой силы» естественным образом сочеталось с диким, первобытным стилем взаимоотношений внутри самой командной верхушки армии. В упомянутом выше письме Маленкову командир 141-й стрелковой дивизии так описывает порядок «взаимодействия» высшего комсостава с подчиненными ему командирами: «...Командарм или его начальник штаба, или даже начальник оперативного отдела вызывает к телефону командира дивизии, его начальника штаба и кричит: «Сволочь, оболтус... твою мать..., почему ваш полк не может взять деревню, сегодня приеду и расстреляю вас всех». Конечно, никто из них за полгода к нам не приезжал (выделено мной. — М.С.), а по телефону расстреливали до пяти раз в день. В какой армии были или есть такие отношения? Эта закваска спускается вниз, кругом стоит сплошной мат... Командарм 33-й армии даже бил по лицу командиров, причем ни за что...» Невероятная на первый взгляд фраза про мордобой, принятый среди высших офицеров, не была свидетельством уникального для Красной Армии события. Красные генералы из числа тех, кого «природа предназначала» на роль главаря воровской шайки, другого способа руководства просто не знали: «...Еременко, не спросив ни о чем, начал упрекать Военный совет в трусости и предательстве Родины. На мои замечания, что бросать такие тяжелые обвинения не следует, Еременко бросился на меня с кулаками и несколько раз ударил по лицу, угрожая расстрелом. Я заявил — расстрелять он может, но унижать достоинство коммуниста и депутата Верховного Совета не имеет права. Тогда Еременко вынул маузер, но вмешательство Ефремова помешало ему произвести выстрел. После этого он стал угрожать расстрелом Ефремову. На протяжении всей этой безобразной сцены Еременко истерически выкрикивал ругательства. Несколько остыв, Еременко стал хвастать, что он, якобы с одобрения Сталина, избил несколько командиров корпусов, а одному разбил голову...» Цитируемое письмо Сталину было написано 19 сентября 1941 г. Безобразная сцена происходила в штабе 13-й армии, куда приехал командующий Брянским фронтом. Но, может быть, Ефремов и автор письма, член Военного совета армии Ганенко, и вправду провинились так, что заслуживали расстрела — пусть и в более правовой форме, т.е. через трибунал? Нет, судя по дальнейшим событиям, Еременко тут же решил помириться с разоблаченными им «предателями»: «Сев за стол ужинать, Еременко заставлял пить с ним водку Ефремова, а когда последний отказался, с ругательствами стал кричать, что Ефремов к нему в оппозиции и быть у него в заместителях не может...» [117, стр. 162]. Сталин почему-то любил генерала Еременко. Он простил ему не только такие мелочи, как насаждение нравов уголовной среды в войсках, но и разгром Брянского фронта (разгром, ставший прологом окружения и гибели Юго-Западного фронта в Киевском «мешке»). В дальнейшем именно Еременко стал тем генералом, к которому Сталин в первый и единственный раз за всю войну приехал на фронт. Тогда же, осенью 1941 г., Сталин отреагировал на письмо комиссара Ганенко, издав приказ № 0391 от 4 октября 1941 г. Приказ назывался «О фактах подмены воспитательной работы репрессиями». Увы, не все приказы товарища Сталина выполнялись. Всего через два месяца, 12 декабря 1941 г., маршал Тимошенко издает приказ войскам Юго-Западного фронта № 0029 «О фактах превышения власти, самочинных расстрелах и рукоприкладстве». В приказе констатируется, что не все командиры «приняли к неукоснительному исполнению приказ тов. Сталина и сделали из него практические выводы». Причем самочинные расстрелы «совершались в пьяном состоянии, на виду у красноармейских масс и местного населения...» [68]. У всякой палки есть два конца. Укоренившееся в сознании многих командиров отношение к людям, как к самому дешевому «расходному материалу», вполне адекватно дополнялось безразличным отношением красноармейцев к уставной обязанности оберегать командира в бою. К сожалению, речь идет вовсе не об отдельных позорных случаях. Масштабы бесследного исчезновения командиров в Красной Армии потрясают. Всего за четыре года войны только в Сухопутных войсках (т.е. без учета авиационных командиров, не вернувшихся с боевого вылета) без вести пропали: 163 командира дивизии (бригады), 221 начальник штаба дивизии (бригады), 1114 командиров полков [35, стр 319]. Даже к началу 90-х годов (полвека спустя) не были известны места захоронений сорока четырех генералов Красной Армии [126]. Это не считая тех, кто был расстрелян или умер в тюрьмах и лагерях, не считая погибших в плену! Сорок четыре генерала — среди них два десятка командиров корпусного и армейского звена — разделили судьбу рядовых солдат, бесследно сгинувших в пучине страшной войны. Солдат было много, в Красной Армии счет шел на миллионы. Солдат часто воюет в одиночку и гибнет без свидетелей. Вот почему многочисленность непогребенных по-людски солдат если и не оправдана, то, по меньшей мере, объяснима. Но как же может пропасть без вести генерал, командир корпуса или дивизии? Командир в одиночестве не воюет. Командование и штаб дивизии имели численность (по штату апреля 1941 г.) в 75 человек. Это не считая личного состава политотдела, трибунала и комендантского взвода. В штабных структурах корпуса и армии людей еще больше. До каких же пределов должно было дойти моральное разложение Красной Армии, чтобы погибшие генералы оставались брошенными в чистом поле, без приметы и следа... «Я ДРУГОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ НЕ ЗНАЮ...» Даже в странах с устойчивой, многовековой демократической традицией вступление в мировую войну вызвало рост авторитарных тенденций, существенные ограничения прав и свобод граждан, ослабление системы общественного контроля за деятельностью органов государственной власти. Но в Советском Союзе все было точно наоборот. Невероятным фактом является то, что именно с началом войны перед миллионами людей открылась реальная возможность ВЫБОРА. До рокового дня 22 июня 1941 г. советский человек не мог выразить свое отношение к власти ни избирательным бюллетенем (в СССР не было даже слабого подобия честных выборов), ни свободным словом в независимой газете, ни ногами (попытка покинуть пределы «государства рабочих и крестьян» считалась преступлением и вполне официально, в соответствии с буквой Уголовного кодекса, называлась «побегом»). Летом 41-го случилось небывалое — перед глазами ошеломленного населения оказались распахнутые настежь двери опустевших райкомов и горкомов, автомобили с панически бегущим партийным и военным «начальством», гипсовые головы любимого «вождя народов», валяющиеся в пыли среди прочего мусора — разорванных партбилетов и пухлых томов сочинений классиков марксизма. В эти безумные дни каждый мог сделать свой личный выбор, выбор без страха перед «родной партией» и ее «вооруженным отрядом» славных чекистов. Нет, никакого массового антисталинского восстания не произошло. Не было ни митингов, ни «солдатских комитетов». Молчаливое большинство (а в нашей стране оно было особенно молчаливым) бойцов Красной Армии молча бросали винтовку, молча вылезали из опостылевшей стальной коробки танка, срывали петлицы и пристраивались к одной из огромных колонн военнопленных, которые в сопровождении десятка немцев-конвоиров брели на запад. В каждом из городов, городков и местечек за несколько дней «безвластия» (между моментом бегства партийного начальства и появлением немецкой комендатуры проходило, как правило, 2—3 дня) были разграблены все магазины. Если это и был бунт, то бунт бессмысленный и жалкий, «бунт на коленях». Да и можно ли было ожидать другого от людей, которым пришлось пережить то, что пережил советский народ за двадцать лет людоедской власти большевиков? В XX веке, в эпоху авиации и радио, в стране с гигантскими посевными площадями плодороднейших земель, большевики возродили людоедство в таких масштабах, которые и не снились каннибалам каменного века. Это не метафора, а простая констатация факта. Свирепая жестокость сталинского режима ни в коей мере не была следствием дурных садистских наклонностей новых вождей. Ничего подобного. Головы у них были холодные, сердца — каменные, и они отлично понимали, что и зачем они делают. Даже в относительно благополучные, урожайные годы реальная товарность русского крестьянского хозяйства не превышала 15—20%. Это означает, что прокормить одну семью городского рабочего могли только пять-шесть крестьянских дворов. Разумеется, такие пропорции не могли устроить товарища Сталина, задумавшего в кратчайший срок создать огромную армию и вооружить ее новейшей техникой. И тогда большевистская власть сознательно и хладнокровно обменяла несколько миллионов человеческих жизней на американские тракторные (танковые) заводы, на французские авиамоторы, на германские станки. В 1930 г. на Украине государство забрало у колхозов 30% зерна, на Северном Кавказе — 38%. В следующем году — соответственно 42 и 47%. План 1932 г. превышал показатели 1931 г. на 32%. Более того, когда осенью 1932 г. стало очевидно, что выполнить план заготовок не удается даже путем полной конфискации всего зерна (включая семенные фонды), разъяренные кремлевские вожди потребовали конфисковать в колхозах, не выполнивших хлебозаготовительный план, так называемые «незерновые продовольственные ресурсы»: сало, картошку, лук, свеклу, соленья [129, 131]. Крайне сомнительно, чтобы при существовавшей тогда инфраструктуре транспортировки, хранения и переработки сельхозпродукции хотя бы малая часть конфискованной еды попала в заводские столовые. Фактически это был «террор голодом». В очередной раз большевики вспомнили завет своего вождя и учителя («Проучить так, чтобы на несколько десятков лет они ни о каком сопротивлении и думать не смели»). И на Украине, на Дону, затем в Поволжье и Казахстане начался массовый смертный голод. Голодомор. Спасаясь от голодной смерти, миллионы крестьян поехали, пошли, поползли в города. Власть отреагировала быстро. 22 января 1933 г. за подписями Молотова и Сталина вышло постановление правительства СССР: «...Центральный Комитет и Правительство имеют доказательства того, что массовый исход крестьян организован врагами советской власти, контрреволюционерами и польскими агентами... Запретить всеми возможными средствами массовое передвижение крестьянства Украины и Северного Кавказа в города...» [129, стр. 170]. Обреченные на голодную смерть районы оцеплялись войсками. За первый же месяц действия этого «карантина» ОГПУ отрапортовало о задержании 219 460 человек! Итальянский консул в Харькове докладывал своему начальству в Риме: «...За неделю была создана служба по поимке брошенных детей... В полночь их увозили на грузовиках к товарному вокзалу на Северском Донце... здесь находился медицинский персонал, который проводил сортировку. Тех, кто еще не опух от голода и мог выжить, отправляли в бараки на Голодной Горе или в амбары, где на соломе умирали еще 8000 душ, в основном дети. Слабых отправляли в товарных поездах за город и оставляли умирать вдали от людей. По прибытии вагонов всех покойников выгружали в заранее выкопанные большие рвы... Каждую ночь в Харькове собирают по 250 трупов умерших от голода или тифа. Замечено, что большое число из них не имеет печени, из которой готовят пирожки и торгуют ими на рынке...» [129] У голодомора 1933 г. было два принципиальных отличия от смертного голода 1921 г. Во-первых, это был искусственно организованный мор, в то время как голод 1921 г. был вызван «естественными» причинами (если только разорение и упадок народного хозяйства в результате войны, развязанной большевиками, можно считать «естественным» процессом). Урожай 1932 г. был действительно низким, но вовсе не недород послужил причиной гибели миллионов. Так, только на Украине в счет государственных хлебозаготовок было собрано 36,5 млн центнеров зерна [123]. Исходя из того, что на пропитание одного человека достаточно двух центнеров зерна в год, мы приходим к выводу, что одних только украинских госзаготовок было достаточно для того, чтобы обеспечить буханкой хлеба 18 млн голодающих. А сколько зерна просто сгнило из-за недостатка крытых токов и элеваторов, сколько перегнали на водку... Во-вторых, добрый дедушка Ленин все-таки выделил какие-то деньги на закупку продовольствия за рубежом. Товарищ Сталин ВЫВЕЗ на экспорт из голодающей страны 17,3 млн центнеров зерна в 1932 г. и 16,8 млн центнеров — в 1933 году [132]. В тот самый год, когда в Харькове пекли пирожки с человечиной, из СССР на экспорт было отправлено 47 тыс. тонн мясомолочных продуктов, 54 тыс. тонн рыбы; страна людоедов экспортировала муку, сахар, колбасы, подсолнечник... [132]. Точные цифры, характеризующие масштаб этого беспримерного в истории преступления, уже не будут названы никогда. По самым осторожным расчетам советского украинского историка С. Кульчицкого (в современной Украине называют значительно большие цифры), только в 1933 г. и только на Украине от голода умерло 3—3,5 миллиона человек [131]. С 6 до 3 миллионов человек сократилось в те годы население Казахстана [74]. В Поволжье «изъятия незерновых ресурсов» не было (т.е. картошку и соленые огурцы колхозникам все-таки оставили). В результате от голода там умерло «всего лишь» 400 тысяч человек. Главным по численности «неприятелем», с которым боролись большевики, было экономически самостоятельное (а поэтому — потенциально опасное для диктаторской власти) крестьянство, составлявшее к 1917 г. четыре пятых населения страны. Но и горожан новая власть не забывала. С февраля 1930 г. по декабрь 1931 г. из крупных городов было депортировано более 1,8 млн человек, так называемых «деклассированных элементов и нарушителей паспортного режима» [129]. Под это определение подпадали не только буржуазные профессора и буржуазные инженеры, не только бездомные крестьяне, бежавшие от колхозного голода в город, но и городские рабочие, которых облава застала на улице без паспорта в кармане. В архивных документах отмечены случаи, когда ловили и людей с паспортом — для численности в отчете; отмечен эпизод, когда из Москвы как «нарушителя паспортного режима» депортировали начальника райотдела милиции, который имел неосторожность выйти из дома без паспорта и служебного удостоверения в кармане... Тех депортированных, кому крупно повезло, ждали принудительные работы на «великих стройках коммунизма». Так, в Магнитогорске в сентябре 1932 г. жило 42 462 «спецпоселенца», что составляло две трети населения этого воспетого в стихах и прозе «города мечты». Но такое везение ждало отнюдь не всех. «...20 и 30 апреля 1932 г. из Москвы и Ленинграда были отправлены на трудовое поселение два эшелона деклассированных элементов, всего 6144 человека... Прибывши в Томск, этот контингент был пересажен на баржи и доставлен на остров Назино... На острове не оказазалось никаких инструментов, никаких построек, ни семян, ни крошки продовольствия... 19 мая выпал снег, поднялся ветер, а затем и мороз... Люди начали умирать. В первые сутки бригада могильщиков смогла закопать 295 трупов. Только на четвертый или пятый день прибыла на остров ржаная мука, которую и начали раздавать по несколько сот грамм. Получив муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и штанах разводили болтушку и ели ее. При этом огромная часть их просто съедала муку, падала и задыхалась, умирая от удушья... Вскоре началось в угрожающих размерах людоедство... В результате всего из 6100 чел., прибывших из Томска, к 20 августа осталось в живых 2200 человек...» [129, стр. 162]. Это — строки из отчета инструктора Нарымского горкома партии в Западно-Сибирский крайком ВКП(б). Судя по итоговой статистике, кошмар на острове Назино вовсе не был чем-то из ряда вон выходящим. В ходе первой же перерегистрации «спецпоселенцев», проведенной в январе 1932 г., была выявлена убыль 500 тыс. человек, умерших или сбежавших (на верную гибель) в тайгу. Массовые репрессии и Голодомор 1929—1933 г. наряду с простыми, прозаическими, «хозяйственными» задачами (обеспечить растущую промышленность сверхдешевой рабочей силой и дармовыми сельхозпродуктами, набрать золото и валюту для закупок западной технологии) имели своей целью и решение одной весьма сложной социальной проблемы. Новый правящий класс сверху донизу был наполнен людьми, имевшими личный опыт. Опыт организации восстаний, переворотов, партизанских отрядов, «красных гвардий» и пр. Этот опыт и наличие этих людей не могли не беспокоить партийную верхушку. И только после раскулачивания и коллективизации Сталин и компания смогли вздохнуть спокойно. Теперь они знали — для «активистов», выгребавших кашу из котелка у голодающих, дороги назад, к ограбленному народу, уже нет и не будет никогда. Связанные круговой порукой безмерного злодейства, они могли теперь лишь покорно брести вдоль по извилистой «линии партии». В январе 1934 г. горячо любимый нашими «либералами 60-х годов» С. Орджоникидзе писал еще более любимому ими С.М. Кирову: «Кадры, прошедшие через ситуацию 32—33-х годов и выдержавшие ее, закалились как сталь. Я думаю, что с ними можно будет построить Государство, которого история еще не знала». Пророческие слова. Глубоко верные. История России раньше такого не знала. И таких «кадров», которые могли бы ежедневно выгружать опухших от голода детей в голую степь, в старые времена, в старой России еще надо было поискать. К сожалению, ни автор письма, ни его адресат не дожили до июня 1941 г., а поэтому и не увидели, как повели себя эти «закаленные кадры» перед лицом вооруженного неприятеля. Пока же, в условиях затянувшейся на долгие годы «мирной передышки» (которая для простого народа оказалась гораздо страшнее империалистической войны), новая элита «пролетарского государства» не теряла время зря. «Вышла я замуж в июне 1929 г. ... Сказочная жизнь, сказочная... Квартира на Манежной площади, напротив Кремля. Шесть комнат... Я ездила за обедами... Везли в термосах — не остывало, это же близко от Кремля, а машине нашей — везде зеленый свет... Обеды были вкусные, повара прекрасные, девять человек были сыты этими обедами на двоих... К обедам давалось всегда полкило масла и полкило черной икры... Вместе с обедом можно было взять гастрономию, сладости, спиртное..: Водка красная, желтая, белая. В графинчиках... Чудные отбивные...» [130, стр. 154]. Это воспоминания жены. Жены не начальника даже, а всего лишь сына бывшего члена Политбюро, к тому времени уже опального Каменева. Кремлевские отбивные, как сочную метафору своей будущей судьбы, он ел в скромной шестикомнатной квартире. Действующие, приближенные к Хозяину начальники «морально разлагались» с гораздо большим размахом. Так, 3 февраля 1938 г. Политбюро приняло очередное постановление, в котором отмечалось, что «ряд арестованных заговорщиков (Рудзутак, Розенгольц, Антипов, Межлаук, Карахан, Ягода и др.) понастроили себе грандиозные дачи-дворцы в 15—20 комнат, где они роскошествовали и тратили народные деньги, демонстрируя этим свое полное бытовое разложение и перерождение». Увы, борьба Сталина с «разложенцами и перерожденцами» по результативности соответствовала попыткам вытащить себя из болота, потянув за собственные волосы. Если не дачи, не дворцы и не водку «красную, желтую, белую, в графинчиках», то что же другое мог он предложить своим соратникам? Мечта о мировой революции была изгнана вместе с Троцким, ну а предложить поднявшемуся «из грязи в князи» быдлу идею всеобщего равенства и братства не мог даже сам Хозяин. Ему только и оставалось, что стрелять одних «красных бояр» для устрашения других. Много лет спустя уцелевшие дети и внуки репрессированных начальников внушили легковерным потомкам мысль о том, главные жертвы Большой Резни — это большевики «ленинской гвардии», мужественные военачальники и мудрые министры. Если бы... В 1937—1938 г. органами НКВД было арестовано более 1,5 млн человек, из них 680 тыс. расстреляны, 115 тыс. погибли под пытками во время «следствия» или умерли в тюрьмах и лагерях [196]. Где же было набрать столько генералов, большевиков «ленинской гвардии» и чекистов «школы Дзержинского»? Вероятно, мы не сильно ошибемся, если предположим, что на одного «верного ленинца» пришлось сто невинно загубленных крестьян, рабочих, инженеров, врачей... Но мир устроен так, что даже сто тысяч колхозников не смогут привлечь к трагедии своей семьи столько общественного внимания, сколько привлечет один наследник члена Политбюро. К началу 1939 г. отстрел руководящих работников резко пошел на убыль, а вот репрессии против рабочих и колхозников шли по нарастающей. Рекордным по числу осужденных стал 1940 год — 2,3 млн человек. Примечательно, что в тот год «политические» составляли лишь 25—30% от общего числа репрессированных. Руководствуясь нормальной человеческой логикой, можно было бы предположить, что остальные 70% были уголовниками. Но это не так. Разумеется, были и уголовники, но основную массу узников ГУЛАГа составляли люди, которые стали жертвами криминальных методов руководства, узаконенных сталинской бандой (важно отметить, что 57% всех находящихся в ГУЛАГе имели срок заключения менее 5 лет). Сажали за 30-минутное опоздание к станку, за сломанное по неопытности (или из-за нереальных норм выработки) сверло, за то, что родился в «освобожденной» Восточной Польше или Бессарабии, за то, что дальний зарубежный родственник прислал по глупости почтовую открытку... Накануне войны, в январе 1941 г., в лагерях ГУЛАГа содержалось 1930 тыс. осужденных, еще 462 тыс. человек находилось в тюрьмах, на «спецпоселении» насчитывалось более 1200 тыс. Итого: 3,6 миллиона. Общий же итог предвоенной «семилетки» — 6 млн человек, побывавших за решеткой в период с 1934 по 1941 г. [129]. И когда 3 июля 1941 г., звякая дрожащей челюстью по краю стакана с водой, Сталин обратился к «братьям и сестрам», он знал, что практически у каждого из униженных, ограбленных, обманутых им «граждан» или отец, или брат, или сын, или друг расстрелян, брошен в тюрьму, сослан в Сибирь на каторжные работы... Одним из самых известных заклинаний, с помощью которого коммунистические «историки» объясняли поражение Красной Армии летом 1941 г., звучало так: «История отпустила нам мало времени». Это неправда. Злополучная «история» отпустила сталинскому режиму недопустимо много времени. Для разрушения всех норм морали и права, для духовного растления народов России в его распоряжении оказалось два десятилетия. Начиная с осени 1939 г. в состав сталинской империи начали входить все новые и новые «освобожденные территории», а вместе с территориями — и многомиллионное, многонациональное местное население. Вот для «воспитательной работы» с этим населением времени было действительно мало (Большая Война приближалась с каждым днем), поэтому партия и НКВД работали в оккупированной Восточной Польше и Прибалтике с удвоенной энергией. Известный чекист Судоплатов без малейшего смущения пишет в своих воспоминаниях: «...Во Львове атмосфера была разительно не похожа на положение дел в советской части Украины. Во Львове процветал западный капиталистический образ жизни, оптовая и розничная торговля находилась в руках частников, которых вскоре предстояло ликвидировать...» [162]. Ликвидировали быстро и решительно. Насильственная коллективизация в деревне, внесудебная реквизиция частной собственности в городах, роспуск всех и всяческих политических, общественных, культурно-просветительских организаций, гонения на верующих (в особенности на связанных с Западом католиков и униатов). Бдительность чекистов дошла до того, что они не поленились перечитать тысячи сочинений выпускников польских школ — на предмет выявления «шибко умных и грамотных», семьи которых первыми загрузили в товарные вагоны, уходящие в Сибирь... [129]. По самым минимальным оценкам, более 400 тысяч жителей присоединенных территорий были высланы в Сибирь и Казахстан просто по решению местных «административных органов». Иногда, надо полагать — в порядке черного юмора, уроженцев Польши, ни сном ни духом ни слыхавших про Троцкого, увозили из родных домов на основании Приказа НКВД СССР от 30 июля 1937 г., как «членов семей троцкистов и диверсантов» [161]. Всего с сентября 1939 г. по февраль 1941 г. в западных областях Украины и Белоруссии органами НКВД / НКГБ было арестовано 92 500 человек. Среди них: 41 тысяча поляков, 23 тысячи евреев, 21 тысяча украинцев, 7,5 тысячи белорусов [160]. Дискриминации по национальному признаку, как видим, не было, сажали и стреляли всех. В частности, в Западной Белоруссии чекисты ухитрились выявить некую «еврейско-фашистскую организацию проанглийской (!!!) направленности...». По тому же сценарию, но в еще более сжатые сроки, происходила советизация Прибалтики. Единственное отличие было в том, что если в оккупированной Восточной Польше пострадало главным образом зажиточное меньшинство, то в странах Балтии переход на советские деньги, советские цены и советские зарплаты привел к обнищанию большинства рабочих, ремесленников, служащих, крестьян. За несколько недель до войны масштаб репрессий значительно вырос. К июню 1941 г. общее число арестованных в западных областях Украины и Белоруссии выросло до 107 тыс. человек. В двухмиллионной Латвии только за 14—17 июня 1941 г. было репрессировано (арестовано или выслано) 15 171 человек, а всего в трех странах Прибалтики в эти дни было арестовано 14 467 и депортировано 25 711 человек [155, 160, 161]. Заметим, что и эти цифры — минимальные из встречающихся в литературе. В результате такой настойчивой «работы с населением» западные районы СССР — тыловой район будущих военных действий Красной Армии — начали превращаться в действующий фронт, причем еще задолго до 22 июня 1941 г. В отчетах штабов внутренних войск НКВД предвоенного периода говорится о десятках разгромленных (или находящихся в «оперативной разработке») вооруженных бандформирований, о практически постоянных перестрелках, диверсиях, изъятиях оружия и взрывчатки. Особенно напряженной была обстановка в западных областях Украины, где действовали партизанские отряды ОУН (Организация украинских националистов), накопившие за годы террористической борьбы с польскими властями немалый боевой опыт. Внимательное чтение мемуаров советских командиров показывает, что без упоминания этой темы не обходятся ни одни воспоминания «освободителей» Западной Украины. Из множества примеров отберем два, связанных с одним и тем же городом Ковелем. Герой Советского Союза, выдающийся летчик-истребитель (467 боевых вылетов, 30 лично сбитых самолетов противника) Ф.Ф. Архипенко встретил начало войны в звании младшего лейтенанта в 17-м истребительном авиаполку. Полк базировался на аэродроме Любитов в районе Ковеля. В своих мемуарах Архипенко пишет: «...Помнится, что перед войной в тех местах нередко пропадали командиры из других частей, и, находясь вне воинской территории, приходилось быть бдительным... Весной 1941 года по заданию комиссара в одной из деревень под Ковелем мне довелось прочитать доклад, посвященный дню Красной Армии... Во время доклада под окнами раздалось несколько выстрелов. Возможно, что неудовлетворенные советской властью (колхозами) селяне решили проверить на практике, в моем лице, моральную стойкость Красной Армии. После доклада были танцы, я тоже приглашал девчат и танцевал, хотя и отвлекался, посматривая по сторонам, чтобы не пристрелили... Атмосфера вокруг была довольно напряженной, и пришла мысль, что неплохо бы быстрее уехать отсюда, пока жив. Хотя меня оставляли ночевать, я настоял на отъезде и на извозчике уехал в Ковель, всю дорогу держа пистолет в готовности за пазухой...» [59, стр. 25]. Командир 15-го стрелкового корпуса полковник Федюнинский прибыл в Ковель в апреле 1941 г. Обстановку в городе он описывает так: «...Женам командиров в Ковеле, Львове и Луцке чуть ли не открыто говорили: «Подождите! Вот скоро начнется война — немцы вам покажут...» Война началась на рассвете 22 июня. Первыми выстрелами войны, которые услышал полковник Федюнинский, стали выстрелы украинских националистов: «...Отдавая частям необходимые распоряжения, я услышал несколько пистолетных выстрелов, гулко разнесшихся по тихим ночным улицам. Немного позже дежурный по штабу доложил, что машина, которую он выслал за мной, при возвращении в штаб была обстреляна, шофер ранен... Точно такая же история произошла и с начальником штаба генерал-майором Рогозным. Он, как и я, после звонка дежурного отправился в штаб пешком, а высланную за ним машину тоже обстреляли. ...В Ковеле, где пока оставался штаб корпуса, было неспокойно. Усилились провокационные вылазки бандеровцев. То в одном, то в другом районе города вспыхивала стрельба... К вечеру 28 июня стрельба, не стихавшая в самом городе в последние дни, усилилась. Мне доложили, что бандеровцы взорвали мост через Турью, отрезав нам отход...» Пожар мятежа разгорался по всей Западной Украине. Да и не только в Западной. Так, в описании боевых действий 32-й танковой дивизии (4-й МК) читаем: «К вечеру 6.7.41 дивизия подошла к Староконстантинову, но в город войти не удалось, так как в городе паника и беспорядки». Староконстантинов находится в Проскуровской (ныне Хмельницкая) области. Это «старая советская» часть Украины. И даже там «беспорядки» оказались такой силы, что командир танковой (!!!) дивизии не рискнул войти в город. При этом в самом областном центре, как докладывал начальник Управления политпропаганды Юго-Западного фронта Михайлов, «после панического отъезда из города районных и областных руководителей была взорвана электростанция и разрушен водопровод. Отошедшие в Проскуров наши части остались без света и воды...» [68]. Главные события разворачивались во Львове — историческом центре Галиции. Бои в городе начались в первые же дни войны. Вот как описывает события 24 июня комиссар 8-го мехкорпуса Н.К Попель: «...Мотоциклетному полку пришлось выполнять несвойственную ему задачу — вести бои на чердаках. Именно там были оборудованы наблюдательные и командные пункты вражеских диверсионных групп (так, подчиняясь внутренней самоцензуре, Попель называет бандеровцев), их огневые точки и склады боеприпасов. Противник контролировал каждое наше движение, мы же его не видели, и добраться до него было нелегко. Схватки носили ожесточенный характер... Понять, где наши, где враги, никак нельзя — форма на всех одинаковая, красноармейская. Нелегко было навести порядок и на центральной магистрали Львова...» [105]. Не чем иным, кроме как широкомасштабным вооруженным мятежом, нельзя назвать ситуацию, сложившуюся в первые дни войны в Прибалтике. Латышская военизированная организация «Айзсарг» (созданная еще в 1919 г.) к 1941 г. насчитывала в своих рядах до 40 тыс. человек. В Литве 17 ноября 1940 г. был 'учрежден подпольный «Фронт литовских активистов», боевые группы которого к весне 1941 г. насчитывали 35 тыс. человек. В докладе от 21 мая 1941 г. немецкая военная разведка с чувством глубокого удовлетворения констатировала: «...Восстания в странах Прибалтики подготовлены, и на них можно надежно положиться. Подпольное повстанческое движение в своем развитии прогрессирует настолько, что доставляет известные трудности удержать его участников от преждевременных акций...» [155]. Тщательно изготовленная совместными усилиями сталинцев и гитлеровцев «мина замедленного действия» взорвалась 22 июня 1941 г. Раньше, чем в Каунас вошли передовые части вермахта, контроль над городом установила некая «литовская комендатура» во главе с полковником бывшей литовской армии Бобялисом. 23 июня в Каунасе было сформировано «Временное правительство», 27 июня объявлено о восстановлении органов власти и законодательства независимой Литвы [26, стр. 130]. Один из очевидцев событий свидетельствует: «...Советские руководители Литвы поспешили удрать на машинах первыми, а за ними потянулись милицейские органы, тем самым развязав руки контрреволюционным бандам в Литве... Каунас и вся Литва вообще в течение нескольких дней находились без гражданских властей. 23 и 24 июня контрреволюция организовала боевые дружины, привлекая даже гимназистов 5-го класса...» [155, стр. 386]. Убежать куда-либо из Риги (столицы Латвии) сложнее — город стоит на берегу морского залива. Возможно, поэтому в городе разгорелись настоящие уличные бои. В документе под названием «Краткое описание боевых действий 5-го мотострелкового полка войск НКВД» обстановка в городе описана следующим образом: «...Враждебные элементы наводили панику в тылу армии, деморализовали работу штабов, правительственных и советских учреждений... Враги установили на колокольнях церквей, башнях, чердаках и в окнах домов пулеметы, автоматы и вели обстрел улиц, зданий штаба Северо-Западного фронта, ЦК Компартии Латвии, телеграфа, вокзала...» В ночь на 24 июня группа мятежников ворвалась в дом, где проживали работники ЦК Компартии Латвии. О масштабе этого ночного боя в столице можно судить по тому, что «в ходе боя 128 человек нападавших было убито, 457 взято в плен» [155, стр. 404]. 28 июня (войска немецкой Группы армий «Север» заняли Ригу только 30 июня) мятежники захватили радиостанцию Риги и объявили о создании «Временного правительства Латвии»... [26, стр. 207]. Таким оказался конечный результат «мудрой внутренней и неизменно миролюбивой внешней» политики советского государства. Аннексированные в 1939—1940 гг. территории Восточной Польши, Литвы, Латвии, Бессарабии превратились для Красной Армии в ловушку. В ловушку попали не только части действующей армии, в этом смертельном капкане оказались и семьи командного состава Красной Армии. Семьи командного состава. Это еще одна окровавленная — и тщательно забытая — страница истории начала войны. Среди хаоса и неразберихи первых дней семьи комсостава оказались в городах и поселках, охваченных «беспорядками» такой силы, что даже танковые дивизии (вспомним 4-й и 8-й мехкорпуса) с трудом могли вырваться оттуда. Эта трагедия была совершенно беспрецедентной — ни в одной стране, вступившей в войну против гитлеровской Германии, ничего подобного не было. Ни во Франции, ни в Бельгии, ни в Польше, ни в Норвегии в армейских командиров и их малолетних детей не стреляли изо всех чердаков и подворотен. Почему стреляли в оперативном тылу Красной Армии, понятно: в Прибалтике и на Западной Украине война началась скорее как «малая гражданская», нежели «великая отечественная», и обе стороны в такой войне действовали за гранью милосердия. Вопрос в другом: каким образом семьи комсостава оказались на «освобожденных» в 1939—1940 гг. территориях? За редчайшими исключениями жены (и уж тем более дети) командиров Красной Армии не были уроженцами западных «присоединенных» земель. Они туда приехали вместе со своими мужьями-военнослужащими. Практически у всех на востоке остались родители, братья, сестры. Организованная, своевременная эвакуация семей комсостава из зоны будущих боевых действий была вполне возможна. Более того, прецедент такого «разъединения» семей был. 22 декабря 1940 г. нарком обороны СССР издал приказ № 0362, в соответствии с которым переводились на казарменное положение «летчики, штурманы и авиатехники, независимо от имеющихся у них военных званий, находящиеся в рядах Красной Армии менее 4 лет». Пункт 7 приказа гласил: «...Семьи летно-технического состава, переводимого на казарменное положение, к 1 февраля 1941 г. вывести с территории военных городков. Выселяемые семьи отправить на родину или переселить на местные городские и поселковые жилфонды вне расположения авиачасти...» [17, стр. 202]. На проезд семьи по железной дороге выдавались бесплатные проездные документы и «пособие на устройство в новом месте» в размере от 2000 до 3500 руб. (в зависимости от состава семьи). Деньги немалые, учитывая, что средняя зарплата рабочего промышленности составляла в то время 350—400 руб. Примечательно, что в преамбуле приказа было сказано: «...В современной международной обстановке, чреватой всякими неожиданностями, переход от мирной обстановки к военной — это только один шаг. Наша авиация, которая первая примет бой с противником, должна поэтому находиться в состоянии постоянной мобилизационной готовности... Задача создания обученных и вполне подготовленных к бою летчиков несовместима с современным положением, когда летчик переобременен семейными заботами... Нигде в мире не существует таких порядков, чтобы летчики жили по квартирам с семьями и чтобы авиационные части представляли из себя полугражданские поселки. Терпеть такое положение далее — это значит ставить под удар дело боевого воспитания наших летчиков, дело укрепления нашей авиации, оборону нашей страны...» [17, стр. 201]. Золотые слова. Но если в декабре 1940 г. обстановка оценивалась как «чреватая всякими неожиданностями», и поэтому даже в далекой Сибири или Казахстане летчиков переводили из-под семейного крова в казарму, а семью за государственный счет «отправляли на родину», то что же мешало принять аналогичные меры применительно ко всем семьям комсостава, находившимся в западных округах в тот момент, когда немецкие войска уже снимали проволочные заграждения вдоль границы? Рациональный ответ на этот вопрос найти не удастся. Разумеется, добровольные адвокаты Сталина и в этом случае скажут, что заблаговременная эвакуация семей комсостава не была проведена, дабы «не дать Гитлеру повода к нападению». Спорить на эту тему бессмысленно да и, честно говоря, надоело. В мае — июне 1941 г. десятки тысяч вагонов с людьми, танками, орудиями, боеприпасами мчались на запад, срывая графики движения по всем железным дорогам Советского Союза. Какие еще «поводы» нужны были Гитлеру? Масштаб начавшегося стратегического развертывания Красной Армии был настолько велик, что Сталин уже и не пытался его отрицать. Вместо этого 13 июня 1941 г. в знаменитом «Сообщении ТАСС» была сделана весьма неуклюжая, на дурачка рассчитанная, попытка дать успокоительное для Гитлера объяснение происходящего: «...проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата...» В такой обстановке отъезд на восток нескольких тысяч женщин и детей ничего бы не добавил и не убавил. Скорее всего, здесь проявились самовлюбленная заносчивость кремлевских правителей (воевать они планировали на чужой земле, под гром оркестров) и обычное для сталинского режима безразличие к судьбам и чувствам людей. Мало того, что власть сама не организовала эвакуацию семей, она еще и активно препятствовала проявлению личной (или коллективной) инициативы в этом вопросе. Бывший начальник Управления НКГБ г. Белостока товарищ Бельченко в своих воспоминаниях пишет: «На бюро обкома партии мы рассматривали решения некоторых приграничных райкомов партии об исключении из ВКП(б) тех, кто начал отправлять свои семьи в наши тыловые объекты» [62]. Надо ли напоминать о том, что означало для командира Красной Армии исключение из партии? И не только в Белостоке принимались такие безумные решения. Открываем книгу генерала Сандалова (в начале войны — начальника штаба 4-й армии Западного фронта) и читаем: «...19 июня 1941 г. состоялся расширенный пленум Брестского областного комитета партии... На пленуме первый секретарь обкома тов. Тупицын обратил внимание на напряженность международной обстановки и возросшую угрозу войны. Он призывал к повышению бдительности... На вопросы участников пленума, можно ли отправить семьи из Бреста на восток, секретарь обкома ответил, что этого не следует делать, чтобы не вызвать нежелательных настроений...» [79]. Впрочем, уже через несколько дней партийное начальство во всем винило начальство армейское. Секретарь ЦК КП(б) Латвии Я. Калберзин докладывал в Москву, что «благодаря недопустимому и непонятному поведению штаба Прибалтийского Особого военного округа семьи партийных и советских работников были эвакуированы в самый последний момент, когда уже выступила «пятая колонна» и на улицах шла ружейная и пулеметная стрельба» [112]. Вот так и получилось, что утром 22 июня 1941 г. многие тысячи командиров Красной Армии оказались перед нечеловеческим выбором: выбором между долгом мужчины, обязанного защищать свою женщину и своих детей, и долгом военачальника, отвечающего за боеспособность вверенной ему части. Бог им всем судия, но вышло так, что практически повсеместно командиры Красной Армии бросили своих солдат и занялись спасением жен и детей. Не нам судить их, но как не понять людей, чьи семьи оказались под угрозой почти неминуемой гибели — если не от немецкой бомбы, то от пули местных националистов. В это окаянное время, при отсутствии общего и ясного порядка эвакуации, каждый командир, каждый партийный функционер действовал в меру своей совести и своих возможностей. Кто-то ограничился тем, что «съездил проверить тылы», посадил жену с ребенком в уходящий на восток товарный поезд и вернулся в свою воинскую часть. Кто-то грузил в машину, предназначенную для перевозки боеприпасов, домашнее барахло и фикус с горшком. Председатель Витебского горсовета Азаренко, как отмечено в докладе военного прокурора, «загрузил в приготовленный им грузовик бочку пива, чтобы пьянствовать в дороге, как он обыкновенно это делает в городе у себя на службе...» [68]. «История отпустила нам мало времени...» Организовать эвакуацию семей комсостава не успели. Зато успели, несмотря на хаос и панику, пресловутое «отсутствие боеприпасов и горючего», провести то, что в служебных отчетах НКВД скромно называлось «эвакуация тюрем». 12 июля 1941 г. начальник тюремного управления НКВД Украины капитан госбезопасности А.Ф. Филиппов докладывал в Москву: (ГАРФ ф. 9413, on. 1, д. 23, л.л. 147-153): «...из тюрем Львовской области убыло по 1-й категории 2464 человека... Все убывшие по 1-й категории заключенные погребены в ямах, вырытых в подвалах тюрем, в городе Злочеве — в саду... Все документы и архивы в тюрьмах сожжены, за исключением журналов по учету заключенных, картотек и учета ценностей. Все эти документы прибыли в г. Киев... Во время эвакуации в двух тюрьмах г. Самбор и Стрый убыло по 1-й категории 1101 человек... 27 июня при эвакуации тюрьмы г. Самбор — осталось 80 не зарытых трупов... Из 3 тюрем Станиславской области по 1-й категории убыло 1000 человек. По заявлению нач. тюрьмы г. Станислава Гриценко, погребение произведено за пределами тюрьмы в вырытой для этой цели яме. Часть 1-й категории погребено на территории тюрьмы в яме... В тюрьме г. Тарнополъ убыло по 1-й категории 560 чел. Погребение произведено в вырытых специально для этой цели ямах, однако часть (197 чел.) погребены в подвале НКГБ, мелко очень зарыты... В тюрьме г. Бережаны убыло по 1-й категории 174 чел. ... Из общего количества убывших по 1-й категории осталось в подвале тюрьмы 20 человек, которых не успели вывезти, так как нач. райотдела НКГБ Максимов категорически отказал в предоставлении машин для вывоза трупов... Из тюрьмы г. Дубно по 1-й категории убыло 230 человек...» [198, 199]. В докладе были вскрыты и отдельные упущения в работе, правда, вся вина за них была возложена на «смежников», т.е. на местные органы НКГБ (тюремное же ведомство входило в состав НКВД): «...Местные органы НКГБ проведение операций по 1-й категории в большинстве возлагали на работников тюрем, оставаясь сами в стороне, а поскольку это происходило в момент отступления под огнем противника, то не везде работники тюрем смогли более тщательно закопать трупы и замаскировать внешне...» Закапывали действительно очень небрежно. Жуткий смрад разлагающихся на 30-градусной жаре трупов висел надо Львовом. В районе тюрьмы работать без противогазов было и вовсе невозможно. Ведомство Геббельса выпустило позднее целую книгу писем немецких солдат, в которых они рассказывали о прибитых гвоздями к стенам изуродованных, четвертованных телах, обнаруженных внутри Львовской тюрьмы. Затем советская пропаганда пять десятилетий подряд яростно отрицала сам факт массового убийства заключенных... В западных областях Белоруссии провести столь массовую резню не успели — вермахт наступал там слишком быстро. Но к востоку от Минска НКВД продолжал работать. В докладе военного прокурора Витебска читаем: «...Сержант госбезопасности, член ВКП(б) Приемышев 24 июня вывел из Глубекской тюрьмы в г. Витебск 916 осужденных и следственно-заключенных (оцените количество узников в тюрьме захолустного уездного городка. — М.С.). По дороге этот Приемышев в разное время в два приема перестрелял 55 человек, а в местечке около Умы, во время налета самолета противника, он дал распоряжение конвою, которого было 67 человек, перестрелять остальных, и было убито еще 65 человек... По его заявлению всего было перестреляно 714 заключенных. Нами по личным делам установлено, что среди этих заключенных более 500 человек являлись подследственными (т.е. вина этих людей даже по советским законам не была еще доказана. — М.С.)» [68]. Разумеется, гитлеровская пропаганда оценила и максимально использовала в своих целях щедрый «подарок», который вручили немецким оккупантам славные чекисты. Окровавленные останки раскладывали на площадях, сгоняли людей, которые опознавали изуродованные тела своих родных и близких. Затем населению «объясняли», что во всем виноваты «жидовские комиссары», и в обстановке массовой истерии подстрекаемая провокаторами толпа начинала еврейский погром. Так, у разрытых могил одна кровавая диктатура передавала «эстафетную палочку» чудовищных преступлений другой... КАТАСТРОФА Катастрофа. Это слово многократно появлялось на страницах нашего повествования для обозначения того, что произошло с Красной Армией летом 1941 г. Но в истории Второй мировой войны у этого слова есть еще одно значение. Катастрофа или Холокост (всесожжение по-древнегречески) — этими терминами принято называть гибель большей части еврейского населения Европы в результате организованного гитлеровской Германией геноцида. По меньшей мере две причины делают главу о Холокосте необходимой частью этой книги. Во-первых, именно разгром и беспорядочное отступление Красной Армии в первые недели войны обрекли на гибель почти 3 миллиона евреев — половину всех жертв Катастрофы. Во-вторых, в истории Холокоста на советской земле исключительно ярко проявились те характерные черты взаимоотношений народа и власти, официозной пропаганды и реального состояния общественного сознания и морали, без учета которых невозможно понять причины беспримерной военной катастрофы, постигшей Советский Союз и его армию. Для начала — немного сухих цифр и общеизвестных фактов. На протяжении нескольких столетий на территории стран Восточной Европы — Польши, Литвы, Венгрии, Румынии, России — проживала большая часть всего еврейского народа. К моменту начала Второй мировой войны в западных областях Советского Союза, позднее оккупированных немецкими и румынскими войсками, проживало 2,15 млн евреев. В дальнейшем каждый новый шаг «активной внешней политики СССР» переводил в разряд граждан Советского Союза все новые и новые сотни тысяч евреев: 250 тысяч в Литве, 80 тысяч в Латвии, 300 тысяч в Бессарабии. Самый большой «улов» состоялся в сентябре 1939 г., когда в состав советских Украины и Белоруссии были включены обширные районы Восточной Польши, на которых проживало 1300 тыс. евреев. Таким образом, к 22 июня 1941 года на территории, которой предстояло стать оккупированной, было сосредоточено более 4 млн евреев. Кроме того, в приграничных районах находилось порядка 200—250 тыс. еврейских беженцев из западных областей Польши, Чехословакии, Румынии [159]. Позднее, уже после войны, коммунистические историки проделали нехитрый арифметический трюк и перестали считать советскими гражданами уроженцев Польши, Прибалтики, Румынии. Таким образом им удалось более чем в два раза снизить число жертв Холокоста на советской земле, «переписав» погибших в разряд жертв геноцида в Польше, Румынии и т.д. Эта постыдная шулерская игра не только противоречит всем юридическим нормам (на момент оккупации будущие жертвы были подданными СССР), но и совершенно не стыкуется с многолетними разглагольствованиями советской пропаганды о том, что «освободительные походы» имели своей целью как раз «защиту населения Польши и Прибалтики от ужасов фашистской оккупации». Судя по тому, как развивались события лета 1941 г., тогдашним руководителям — как и позднейшим пропагандистам — была абсолютна чужда мысль о том, что государство несет какую-то ответственность за жизнь своих подданных. По сей день не обнаружено ни одного документа, ни одного свидетельства того, что советское правительство хотя бы искало пути спасения тех своих граждан, которых в условиях оккупации ждала не тяжелая, безрадостная, голодная ЖИЗНЬ, а жестокая и неминуемая СМЕРТЬ. Директива Ставки № 45 от 2 июля 1941 г. «О порядке эвакуации населения и материальных ценностей» содержит множество пунктов и подпунктов. В пункте 9 предписано «больных лошадей не эвакуировать, уничтожать на месте». Далее, после больных лошадей, в пункте 13 сказано: «Семьи военных и руководящих гражданских работников эвакуировать ж.д. транспортом» [5, стр. 43]. И ни одного слова о том, что же делать с семьями (как правило — многодетными) евреев. Разумеется, вывезти в считаные дни (Красная Армия отступила из Литвы, большей части Белоруссии, западных областей Украины за первые 7—10 дней войны) два миллиона человек было технически невозможно. Констатация этого бесспорного факта не должна умалять значения того, что власти не предприняли ни малейших попыток вывезти хоть кого-то, хотя бы несколько тысяч детей. Более того, в первые, самые критические для судеб еврейского населения приграничных областей дни на «старой границе» (т.е. советско-польской границе 1939 г.) продолжали действовать погранзаставы, которые задерживали всех, у кого не было специального разрешения на выезд или партбилета! [159, стр. 268]. Эта абсурдная практика эвакуации населения лишь по «разрешениям на выезд» продолжалась до тех пор, пока волна немецкого наступления не смела сами погранзаставы на «старой границе». Объяснить все это аргументами здравой логики трудно. Люди — это ценнейший «ресурс», оставлять который неприятелю нет никакого резона. Кстати, во время «второго отступления» (летом 1942 г.) эвакуация рассматривалась как патриотическая обязанность советского человека. Скорее всего, в начале войны просто сработал извечный чиновничий инстинкт: «хватать и не пущать». Любая самостоятельная деятельность — тем более такая значимая, как смена места жительства, — без специальной санкции властей представлялась нарушением всех норм и устоев. Если спасти хотя бы часть еврейского населения было трудно, а вывезти всех — практически невозможно, то оповестить людей о грозящей им смертельной опасности было достаточно просто. Гораздо проще и дешевле, чем уничтожать больных лошадей. Черная «тарелка» громкоговорителя висела на каждой деревенской улице, не говоря уже про города. Газеты и листовки издавались и сыпались многомиллионными тиражами. Что-что, но наставлять население «на путь истинный» советская власть умела, и необходимая для этого инфраструктура была создана еще задолго до войны. Но ничего сделано не было. Абсолютно ничего. Даже в тех случаях, когда явно описывался акт массового уничтожение евреев, в газетных статьях использовались или общие формулировки («гитлеровцы согнали к противотанковому рву несколько тысяч мирных советских граждан...»), или идеологически выгодные штампы: «передовых рабочих», «комсомольцев», «родителей и жен красноармейцев». Первая широкомасштабная информационная акция состоялась лишь 24 августа 1941 г. В тот день по Всесоюзному радио транслировался «радиомитинг еврейской общественности». Отчет о митинге поместили и все центральные газеты. Главной задачей мероприятия была активизация еврейских общин Англии и США, что должно было подтолкнуть правящие круги этих стран к оказанию более действенной помощи СССР. Но, независимо от замысла организаторов, эта радиопередача способствовала информированию евреев Советского Союза о нависшей над ними угрозе. К сожалению, информация крайне запоздала. К тому времени Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, большая часть Левобережной Украины, западные районы Смоленщины были уже оккупированы. Что же касается официальных заявлений руководства страны, то первое упоминание о зверских расправах с еврейским населением появилось в ноте Наркомата иностранных дел СССР от 6 января 1942 г. В этом документе целый абзац был посвящен трагедии Бабьего Яра и гибели 52 тысяч евреев Киева. Наконец, 19 декабря 1942 г. было опубликовано специальное Заявление НКИД «Осуществление гитлеровскими властями планов уничтожения еврейского населения Европы». Правда, к моменту выхода этого Заявления оповещать было уже некого. В декабре 1942 г. в гетто и концлагерях на оккупированных территориях Советского Союза доживали свои последние дни последние 250 тыс. узников [159]. Примечательно, что Заявление, фактически подведя итог реализации «планов гитлеровских властей», отнюдь не призывало местных жителей, партизанских командиров спасать тех, кого еще можно было спасти... Таким образом, единственным средством оповещения стала изустная народная молва, а основным транспортным средством беженцев — пара ног. Лошадей уже не было («неоспоримые успехи сталинской коллективизации»), личного автотранспорта еще не было. И тем не менее около 1 млн (по другим данным — до 1,5 млн) евреев смогли обогнать наступающую немецкую армию. Спаслись главным образом жители РСФСР и восточных областей Украины — у них было больше времени, к тому же многие были вывезены в организованном порядке как работники эвакуируемых промышленных предприятий. Порядка 3 млн человек остались на оккупированной территории, в том числе: 220 тыс. в Литве, 620 тыс. в Западной и 180 тыс. в Восточной Белоруссии, 250 тыс. в Молдавии, 1500 тыс. на Украине [159]. Для уничтожения евреев на территорию СССР было направлено четыре «айнзатцгруппы» СС общей численностью порядка 3 тыс. человек. В том числе — не менее 600 человек технического персонала: водители, механики, радисты, переводчики. Для того чтобы такими силами найти, выявить и уничтожить 3 млн евреев (которые при этом всячески скрывались, подделывали документы, прятались в лесах и болотах), гитлеровцам, наверное, потребовалась бы как раз та тысяча лет, которую надеялся просуществовать Третий рейх. Другими словами, и темпы и сама возможность осуществления «окончательного решения еврейского вопроса» в огромной степени зависели от отношения к этому делу местных жителей. История Холокоста дает примеры самых разных вариантов развития событий. Так, полностью отказались участвовать в реализации гитлеровских планов геноцида Финляндия, Испания, Болгария — страны, считавшиеся союзниками фашистской Германии. В Италии и Венгрии массовое истребление евреев началось лишь после оккупации этих стран немецкой армией (соответственно в 1943—1944 гг.). Власти и народ Дании спасли практически всю еврейскую общину своей страны, переправив по морю 8 тыс. человек в нейтральную Швецию. В поверженной Франции накануне войны проживало 350 тыс. евреев. Порядка 100 тыс. человек укрыли местные жители и католические монастыри, еще 40—50 тыс. евреев тайно переправили в Испанию и Швейцарию. Погибло 83 тыс. человек — менее одной четвертой предвоенного еврейского населения Франции. Смогли пережить оккупацию треть еврейских общин Чехии и Сербии. Остался в живых каждый четвертый еврей Бельгии и Нидерландов — факт удивительнейший, если принять во внимание размеры этих стран, плотность населения, отсутствие крупных лесных массивов и полные четыре года немецкой оккупации. На оккупированных территориях Советского Союза «пропорция уничтожения» повсеместно превышала 90%. Беспрецедентным по темпам, жестокости, степени вовлеченности местного населения стал Холокост в Прибалтике — там было уничтожено до 96% евреев, оставшихся в оккупации. В общей сложности от рук оккупантов и их местных пособников погибло 2825 тысяч советских евреев [159, стр. 43, 96, 167, 206]. Большая часть уцелевших приходится не на спасенных местными жителями, а на узников гетто в румынской зоне оккупации (так называемая Транснистрия, т.е. территория Украины между Днестром и Южным Бугом). В начале войны истребление евреев румынскими войсками и жандармерией носило массовый и крайне изуверский характер (так, 23 октября 1941 г. в помещении артиллерийских складов в Одессе было заживо сожжено 19 тыс. человек). Но после разгрома фашистских войск под Сталинградом румынское руководство прекратило массовые убийства, а затем даже разрешило доставку в гетто продовольственной помощи от международных организаций. Что же касается зоны немецкой оккупации, то там погибли практически все не успевшие эвакуироваться евреи. Даже если бы в нашем распоряжении не было никаких других документов и воспоминаний, уже одна только высочайшая «эффективность» и тотальность геноцида, достигнутая на советской земле, неопровержимо свидетельствует о том, что эсэсовские палачи нашли здесь необходимое количество пособников из местного населения. К сожалению, есть и документы, и факты, и чудом выжившие свидетели таких зверств, которые просто не укладываются в человеческое сознание. Именно палачи и изуверы из числа бывших советских граждан внесли в дело «окончательного решения еврейского вопроса» ту страсть, которой были лишены служащие бездушной машины гитлеровского государства. 4 июля 1941 г. латышские националисты в г. Рига согнали в синагогу и заживо сожгли 500 человек, в Каунасе 4000 евреев были забиты ломами или утоплены, 10 июля в западно-белорусском местечке Едвабне (ныне это территория Польши) местные жители после многодневных пыток и издевательств заживо сожгли 1600 евреев. Часто местные «активисты» спешили взяться за такую «работу», от которой на начальном этапе войны отказывались сами немцы. Так, первый массовый расстрел малолетних еврейских детей на Украине был произведен 19 августа под Белой Церковью силами местной полиции. 6 сентября 1941 г. зондеркоманда СС, уничтожив в Радомышле 1100 взрослых евреев, поручила украинской полиции убить 561 ребенка. Садистский «энтузиазм» был столь велик и заразителен, что 24 сентября командующий Группой армий «Юг» фельдмаршал Рундштедт издал приказ, запрещающий военнослужащим вермахта «участвовать в эксцессах местного населения...». Но даже не эти ужасающие события следует рассматривать как главные различия в практике осуществления Холокоста на советской земле и в Западной Европе. Принципиально важно отметить, что на Западе геноцид евреев скрывали, а на Востоке — настойчиво демонстрировали. Почему? Создание и эксплуатация любой фабрики — в том числе и «фабрики смерти» — требует денег. Высоченные трубы крематориев надо было построить, печи — обеспечить топливом, газовые камеры — дорогостоящими химикатами. Доставка с разных концов оккупированной Европы сотен тысяч евреев в Освенцим и Майданек отвлекала от обеспечения нужд фронта паровозы, вагоны, запасы угля. Так, летом 1944 г. немцы вывезли в Освенцим 445 тыс. евреев Венгрии. Это огромная дополнительная нагрузка на железные дороги, и Германия пошла на нее, несмотря на то что военная обстановка в то лето складывалась для вермахта немногим лучше, чем для Красной Армии летом 1941 г.! И, только евреев Советского Союза (за отдельными редкими исключениями) никуда далеко не возили, уничтожали прямо по месту жительства, открыто, на глазах населения и с привлечением всех желающих. Одним из возможных объяснений этого странного на первый взгляд парадокса можно считать то, что для Западной Европы гитлеровцы так и не смогли придумать никакого удовлетворяющего общественное мнение объяснения целесообразности геноцида евреев. Тезис о том, что евреи являются «расово-неполноценными недочеловеками», мог только напугать и насторожить француза или венгра («а не объявят ли нас следующими?»). Ну а старая злоба по поводу того, что «евреи Христа распяли», в цивилизованной Европе XX века уже не работала. В результате, дабы не вызывать нежелательные для них настроения среди населения Западной Европы, нацисты пошли на огромные, крайне обременительные в условиях большой войны, транспортные расходы. На Восточном фронте все было совершенно по-другому. «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича». Текст этой знаменитой листовки, в огромных количествах сыпавшейся с неба на колонны отступающих советских войск, в простой, доступной, запоминающейся форме выразил самую суть дела. Не просто «жида» и не просто «политрука», а именно «жида-политрука». Маленькая черточка (вопреки всем правилам арифметики) стала знаком не вычитания, и даже не сложения, а умножения ненависти. Секретарь ЦК Белорусской Компартии товарищ Пономаренко уже на четвертый день войны докладывал Сталину: «Вся их (немцев. — М.С.) агитация, устная и письменная, идет под флагом борьбы с жидами и коммунистами, что трактуется как синонимы» [112]. Именно на доказательство тождественности понятий «еврей и комиссар», «евреи и советская власть», «евреи и НКВД» был направлен весь мощнейший пропагандистский аппарат Третьего рейха. В миллионах листовок, в тысячах газетных публикаций (а на оккупированных территориях издавалось множество газет на русском, украинском и других языках), в бесчисленных устных выступлениях проводилась мысль о том, что именно евреи являются главной действующей силой коммунистического режима, что именно они развязали «красный террор», что именно и только евреи участвовали в наведении «советского нового порядка» на аннексированных территориях Восточной Польши и Прибалтики. В скобках заметим, что, не говоря уже об абсолютной юридической и моральной неприемлемости тезиса о «коллективной уголовной ответственности» целого народа за преступления, совершенные отдельными лицами, само утверждение о «засилье евреев» в органах советской власти и НКВД к концу 30-х годов не соответствовало реальным фактам. Да, действительно, в годы революции и Гражданской войны (1917—1921) доля евреев в руководстве левых экстремистских организаций (большевиков, эсеров, анархистов) была непропорционально велика. Выжившие в огне Гражданской войны «кадры» перешли затем на руководящие должности в партийном и советском аппарате, в органах ВЧК — ГПУ. После Большого Террора 1937—1938 г. ситуация радикально изменилась. В 1934 г. в высшем руководстве НКВД (центральный аппарат наркомата и начальники областных и республиканских управлений) евреев было 37% [140, стр. 495]. Из 37 руководителей НКВД, получивших в 1935 г. высшие персональные звания «комиссар госбезопасности», соответственно 1, 2 и 3 рангов, евреев было 20 человек (54%). Но к 1941 г. из этих 37 «чекистских генералов» в живых осталось только двое! [196, стр. 19, 395]. Новые кадры, пришедшие в количестве 74 человек в центральный аппарат НКВД весной—летом 1938 г. (т.е. еще при Ежове), на 73% (54 человека) состояли уже из лиц славянских национальностей (русские, украинцы, белорусы). Затем большая часть «выдвиженцев Ежова» (85%) была физически уничтожена после прихода поздней осенью 1938 г. нового руководства НКВД во главе с Л. Берия [196, стр. 348, 400]. По состоянию на 1 июля 1939 г. доля евреев в высшем руководстве НКВД снизилась до 4% [140, стр. 495]. К руководству карательной системы пришли новые, весьма молодые (30—35 лет) кадры, на 80% состоящие из лиц славянских национальностей. Не приходится говорить и об «избытке» евреев в административном аппарате «освобожденных» территорий. Так, в Белостокской области (Западная Белоруссия) к середине 1940 г. на большие и малые должности в советском и партийном аппарате было назначено 11 598 человек, в том числе 5195 поляков, 3214 белорусов, 2431 еврей, 613 русских (РГАСПИ, ф. 17, оп. 22, д. 230, л. 69). В Дрогобычской области (Западная Украина) на административные должности назначено 3885 украинцев, 1920 русских, 336 евреев, 245 поляков (РГАСПИ, ф. 17, оп. 22, д. 3108, л. 38) [197]. Таким образом, в Белостоке доля евреев в административных органах несколько меньше, а в Дрогобыче — значительно меньше их доли в общей численности населения (в городах и местечках Восточной Польши евреи составляли 25—35% населения). Арестовывали же евреев гораздо «охотнее», нежели назначали на «теплые места», — как выше уже было отмечено, с сентября 1939 г. по февраль 1941 г. в западных областях Украины и Белоруссии было арестовано 23 тысячи евреев, 21 тысяча украинцев, 7,5 тысячи белорусов. Разумеется, фашистская пропаганда обращалась не к цифрам и фактам, а к застарелым иррациональным антисемитским предрассудкам, соединенным с горячей волной ненависти к коммунистической власти и ее карательному аппарату. Публичное унижение, а затем и зверское истребление евреев должно было, по замыслу гитлеровских оккупантов, разжечь ненависть ко всему, что было связано с советской властью, вовлечь население оккупированных областей в активное сотрудничество с фашистами. И если умчавшееся в комфортабельных автомобилях партийное начальство было далеко и недоступно, то беззащитные многодетные еврейские семьи были рядом, и на них можно было выместить накопившуюся злобу и отчаяние. То, что абсолютное большинство жертв геноцида не имели ничего общего с карательной системой НКВД, да и внешне совершенно не походили на «жирующее начальство», не смущало ни гитлеровцев, ни их пособников, ни (что самое главное и трагичное) рядовых обывателей. Советское общество было давно и тщательно психологически подготовлено к таким явлениям, как массовый внесудебный террор, наказание без преступления, коллективная ответственность целых групп населения за преступления (часто — вымышленные) отдельных лиц. Разве так называемые «кулаки» были похожи на валяющихся на печи «эксплуататоров»? А много ли так называемых «троцкистов» видели живого Троцкого или хотя бы прочитали какую-нибудь его книгу? Да и зачисление целых народов в разряд «подозрительных элементов» (нашедшее свое выражение в арестах и депортациях корейцев, китайцев, поляков, латышей, финнов) было для советских людей уже не в диковинку. Будем справедливы — среди кровавого безумия нашлись люди, способные на высочайший героизм, мужество, самопожертвование. Несмотря на зверский террор оккупантов (расстрел, причем расстрел всей семьи, полагался не только за укрывательство евреев, но и за недонесение!), тысячи людей всех национальностей пришли на помощь обреченным. Израильским мемориально-исследовательским центром «Яд ва-Шем» установлено более 18 тысяч имен людей, спасавших евреев в годы геноцида. Среди них 5500 поляков, 1609 украинцев, 488 литовцев, 440 белорусов (следует уточнить, что в данном контексте термины «поляк», «украинец» обозначают скорее место действия, а не конкретную национальность спасителей). В белорусском местечке Бреслав спасением евреев занималось 60 семей — простые крестьяне, врачи, православные и католические священники. В городе-герое Бресте из 25 тыс. евреев в живых осталось 19 человек. Шестерых из них спасла, спрятав в своем домике, семья Полины Макаренко. Житель Умани, ветеран и инвалид Первой мировой войны Александр Дятлов, спрятал в своем доме 12 евреев. Кто-то из соседей донес немцам. Расстреляли всю семью Дятловых, включая троих детей. Воспитатели детских домов Минска на протяжении трех лет оккупации скрывали от карателей более 500 еврейских детей. 12 детей спасла заведующая детским домом № 2 в Киеве. Капитан вермахта Вилли Шульц вывез на грузовой машине из минского гетто 26 человек. Бургомистр города Кременчуг Синица-Верховский был расстрелян в ноябре 1941 г. за то, что выдавал евреям подложные удостоверения личности. Крестьяне села Раковец (Западная Украина) укрыли 33 еврейские семьи. В селе Куяльник (Одесская область) колхозник В.М. Иванов спас 25 человек... [159]. Строго говоря, палачи и их активные пособники составляли самое большее 2—3% от общей численности взрослого населения оккупированных районов СССР. Не следует забывать и о том, что нормальные люди были лишены возможности выразить им хотя бы моральное осуждение — каратели были вооружены и опирались на поддержку всей военной машины гитлеровской Германии. Однако было бы неуместным и фальшивым упрощением реальной ситуации утверждать, что позиция большей часть населения была нейтральной. И дело не только в том, что отсутствие простого человеческого сочувствия (тем более — насмешки и глумление со стороны недавних соседей, сослуживцев, учеников) буквально ошеломило евреев, лишило многих из них воли к жизни и сопротивлению. Значительная часть населения, хотя и не участвуя непосредственно в убийствах, спешила занять «освободившуюся жилплощадь», охотно наживалась на грабеже еврейского имущества, на мародерской «торговле», когда за кусок хлеба выменивались фамильные драгоценности. Появились даже люди новой профессии — так называемые «шмальцовники». Так прозвали охотников за евреями, которые, обнаружив скрывающихся, вымогали у них выкуп за недонесение. Затем, отобрав у жертвы все, что возможно («вытопив смалец»), они выдавали евреев оккупационным властям [159, стр. 295]. Яркой иллюстрацией ко всему сказанному может служить такой отрывок из пространного отчета К.Ю. Мэттэ — одного из руководителей коммунистического подполья в городе Могилеве: «...В первые месяцы оккупации немцы физически уничтожили всех евреев. Этот факт вызвал много различных рассуждений (заметьте — не ненависть к палачам, не сострадание к жертвам, а «различные рассуждения». — М.С.). Самая реакционная часть населения, сравнительно небольшая, полностью оправдывала это зверство и содействовала им в этом. Основная обывательская часть не соглашалась с такой жестокой расправой, но утверждала, что евреи сами виноваты в том, что их все ненавидят, однако было бы достаточно их ограничить экономически и политически... ...Остальная часть населения, советски настроенная, сочувствовала и помогала евреям во многом, но очень возмущалась пассивностью евреев, так как они отдавали себя на убой, не сделав ни одной, хотя бы стихийной попытки выступления против немцев в городе или массового ухода в партизаны... Просоветски настроенные люди отмечали, что очень многие евреи до войны старались устроиться на более доходные и хорошие служебные места, установили круговую поруку между собой... «И вот теперь евреи тоже ожидают помощи от русских Иванов, а сами ничего не делают», — говорили они... ...Учитывая настроение населения, невозможно было в агитационной работе открыто и прямо защищать евреев, так как это, безусловно, могло вызвать отрицательное отношение (подчеркнуто мной. — М.С.) к нашим листовкам даже со стороны наших, советски настроенных людей, или людей, близких нам...» [158]. Текст потрясающий. Судя по нему, жители Могилева воспринимают происходящее как войну между евреями и немцами. Меньшинство активно выступает на стороне немцев, основная масса обывателей тихо злорадствует («евреи сами виноваты»). Лучшие люди очень возмущаются «пассивностью евреев», но при этом сами сидят в городе и «массовый уход в партизаны» отнюдь не планируют. Одна только мысль о том, что «русский Иван» должен влезть в эту, чужую для него (!!!), драку вызывает крайнее раздражение у этих замечательных «советски настроенных» людей. Стоит отметить, что оккупационные плакаты, вывешенные в Могилеве весной 1943 г., обещали 5 пачек махорки за одного выданного еврея [159]. Дешево, даже по голодному военному времени дешево. Но, видимо, жители города и не старались «устроиться на более доходные места», многих вполне устраивала махорка... БОЧКА И ОБРУЧИ Долгие годы любое обсуждение черт сходства сталинского и гитлеровского режимов было абсолютно запретной темой. Даже в немногих цветных кинофильмах «про войну» нельзя было увидеть фашистский флаг в его реальном, т.е. красном, цвете. Затем, с конца 80-х годов, историков и публицистов как прорвало: вспрмнили и перечислили все, вплоть до общей песни, которую в одной стране пели на слова «все выше, и выше, и выше», а в другой — «майн фюрер, майн фюрер, майн фюрер...». Самое время теперь вспомнить и обсудить два важнейших различия в устройстве этих тоталитарных деспотий. Гитлер пришел к власти на волне националистического подъема (им же и организованного). «Германия превыше всего» — вот главный лозунг, который в деле восхождения Гитлера к власти выполнил ту роль, которую в нашей стране сыграло гениальное изречение Ленина «грабь награбленное». Грабить своих, единокровных немцев, нацисты категорически не разрешали. Они стремились сплотить свою, немецкую нацию, в то время как большевики только тем и были озабочены, чтобы натравить рабочих на работодателей, солдат — на офицеров, батраков — на крестьян, левых — на правых, правых — на левых... Немцам не пришлось пережить ни «раскулачивания», ни разоблачения миллионов «вредителей». Весь необходимый для функционирования тоталитарной диктатуры заряд массовой ненависти был направлен не внутрь, а наружу — на внешних врагов Германии. И результат превзошел все ожидания. До самых последних дней войны немецкий солдат готов был проливать кровь ради спасения фатерлянда от «азиатских орд большевиков» и «наемников еврейской плутократии Запада». На этом фоне идеология и практика большевизма смотрятся редкостным идиотизмом. Признавая неизбежность (более того — желательность) все новых и новых, мировых и европейских войн, Ленин и его приспешники объявили патриотизм опасным и вредным пережитком мелкобуржуазного сознания. Во время Первой мировой войны (которую официальная российская пропаганда именовала тогда «второй Отечественной») они призывали «воткнуть штык в землю» и замириться с солдатами противника. Захватив власть, большевики даже из названия своей армии изгнали всякие следы чего-либо национального. Армия стала и не «русской», и не «российской», и даже не «советской» (по названию государства). Армия была названа «рабоче-крестьянской», солдат стал «красным армейцем», все враги были названы «белыми»: бело-поляки, белокитайцы, белофинны... Ленина еще понять можно. Проведя лучшие годы жизни в эмигрантских кофейнях Парижа и Цюриха, в узком кругу сектантов-фанатиков, он оторвался от реалий российской жизни и всерьез поверил в то, что русский мужик пойдет на войну ради «торжества Мировой Революции». Но товарищ Сталин — беспринципный прагматик и холодный реалист — как он мог пойти таким путем? Да, конечно, потом Сталин опомнился, разогнал Коминтерн, достал из запасников светлые образы «царских генералов», а Александр Невский занял в пропаганде место создателя Красной Армии Льва Троцкого... Но все это будет потом. А на войне опаздывать смертельно опасно. Еще более значимым для темы нашего исследования является другое различие между большевистской и фашистской диктатурами. К моменту начала советско-германской войны Гитлер выполнил большую часть своих обещаний. Сталин и большевики надули доверившихся им простаков почти во всем. Гитлер объединил всех немцев в одном государстве, дал каждому рабочему работу и достойную зарплату, создал впечатляющую систему социальной поддержки материнства и детства, многократно расширил территорию рейха, провел немецкую армию под триумфальной аркой Парижа, не обидел никого из тех представителей старой элиты Германии, кто согласился работать с новой властью. Гитлер не боялся показать немецким рабочим реальные картины жизни сталинского «государства рабочих и крестьян». Выступая с радиообращением к нации 3 октября 1941 г., он мог сказать: «Наши солдаты пришли на земли, 25 лет бывшие под большевистской властью. Те из солдат, у которых в сердцах или в умах еще жили коммунистические идеи, вернутся домой, в буквальном смысле этого слова, исцеленными... Они прошли по улицам этого «рая». Это — исключительно фабрика по производству оружия против Европы, выстроенная за счет жизненного уровня граждан...» Большевики выполнили только одно из множества своих обещаний: обещали вырезать всех «господ» под корень — и вырезали. Причем с большущим перебором. Во всем остальном обман был полный. Делить экспроприированное у экспроприаторов, проще говоря — награбленное, — они ни с кем не стали. Несмотря на астрономические суммы, изъятые у царской семьи, аристократии, церкви, частного капитала, реальный уровень жизни большей части населения богатейшей страны мира оставался таким же нищенским, каким он был и до революции. Вместо обещанного равенства появилась новая знать, которая в стране нищих и людоедов летала на самолетах, каталась на лакированных «паккардах», жила в имениях великих князей, отдыхала на императорских пляжах, одним словом — наслаждалась жизнью по стандартам американских миллионеров. Обещания переселить семьи рабочих из бараков во дворцы закончились тем, что немногие уцелевшие дворцы были превращены в перенаселенные, загаженные коммунальные ночлежки. Обещания отдать «заводы — рабочим» закончились тем, что бывшие вольнонаемные рабочие были превращены в крепостных, лишенных даже права уволиться с завода, на котором они работали в три смены за жалкие гроши, но получали полновесный лагерный срок за получасовое опоздание. Помещичьи земли, захваченные крестьянами в 1917 г., у них отобрали. Вместе со всем нажитым трудом и потом имуществом, вместе со свободой, а у многих — и вместе с жизнью. Нищета, в которой прозябал смоленский или новгородский колхозник, потрясла немецких солдат, которые просто не могли поверить, что люди в Европе могут жить так. За редчайшими исключениями все военные, инженеры, экономисты, дипломаты старой России, которые добровольно пошли на службу к большевикам, до июня 1941 г. не дожили — их расстреляли или «стерли в лагерную пыль». Так какая же пропаганда могла восполнить такой обман, такой крах надежд и ожиданий миллионов людей? Вот поэтому товарищ Сталин за тридцать лет своей власти так и не съездил ни в один колхоз, не посетил ни одного заводского цеха и хороводы с ребятишками не водил. Он не искал любви народных масс, да и вряд ли верил в ее существование. Ему нужна была одна только покорность, покорность абсолютная и нерассуждаюшая, и он добивался ее одним известным и доступным ему способом. Террором. Массовым и чудовищно жестоким террором. Он был убежден, что всеобщий страх — это и есть тот камень, на котором будет покоиться его незыблемая власть, и «врата ада не смогут одолеть ее...». Это и была главная ошибка его жизни. Что и говорить — страх наказания является мощным инструментом воздействия на поведение человека. Отрицать это бессмысленно. Но еще более абсурдными были надежды товарища Сталина на то, что задавленный террором народ можно поднять на Великую Отечественную войну. Многие годы безраздельно и бесконтрольно управляя Россией, Сталин так и не понял смысл мудрой русской поговорки: «Клин клином выбивают». Сильнейший удар, нанесенный вермахтом, разрушил старый страх новым страхом, а револьвер чекиста потускнел и затерялся среди грохота тысяч орудий, среди лязга гусениц тысяч танков. И тогда сталинская империя, скрепленная террором и террором управляемая, стала стремительно и неудержимо разваливаться. Как бочка, с которой сбили обручи. КОГДА НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА? Спасение пришло оттуда, откуда Сталин и ожидать-то его не мог. Это чудесное избавление от неминуемой гибели так потрясло вождя народа, что он не смог сдержаться и заявил об этом во всеуслышание. Правда, потом быстро опомнился и больше ТАКОГО вслух не говорил. Но в ноябре 1941 г., выступая с докладом на торжественном собрании, посвященном очередной годовщине большевистского переворота, Сталин вдруг сказал правду: «Глупая политика Гитлера превратила народы СССР в заклятых врагов нынешней Германии» [172]. В этих словах коротко и точно сформулирована главная причина того, почему драка за передел разбойничьей добычи между двумя кровавыми диктатурами превратилась в конце концов в Великую Отечественную войну советского народа. Гитлер совершил длинную череду вопиющих глупостей в то время, когда победа над сталинской империей буквально валилась ему в руки. Первейшей ошибкой была сама стратегическая установка на сугубо военный разгром противника. Полторы сотни немецких дивизий не могли оккупировать страну, раскинувшуюся от Бреста до Владивостока и от Мурманска до Ашхабада. Если Советский Союз и мог быть разрушен, то только взрывом изнутри (что и произошло в реальности ровно через полвека), и единственным смыслом военной операции могло быть лишь инициирование такого взрыва. Но Гитлер, этот самовлюбленный изувер, возомнивший себя орудием «провидения», не смог (или не захотел) понять столь очевидные истины. И тем не менее, независимо от изначальных планов гитлеровского руководства, процесс внутреннего разложения советского государства пошел со всевозрастающим темпом. В национальных окраинах СССР (Прибалтика, Западная Украина, позднее — Северный Кавказ и Кубань) началось полномасштабное вооруженное восстание, приведшее к появлению во Львове, Риге и Каунасе правительств самопровозглашенных «государств». Большая часть населения центральных областей страны встречала немцев хотя и без цветов, но со смешанным чувством недоверия и ожидания. Уже к началу осени в плену у немцев было полтора миллиона бывших военнослужащих Красной Армии, в течение сентября—октября 1941 г. это число увеличилось более чем в два раза. Фактически это был огромный «призывной контингент», с командными кадрами, с военными специалистами всех видов и с циклопическими горами боеприпасов и оружия — от винтовок до танков КВ включительно, — которое ведь не испарилось бесследно, а осталось в гигантском количестве на контролируемой вермахтом территории. Генералы вермахта, которые видели ситуацию в Красной Армии и в лагерях для военнопленных с близкого расстояния, неоднократно обращались к Гитлеру с предложением использовать уникальную ситуацию с целью скорейшего вывода СССР из войны. Совершенно реальной представлялась возможность повторить опыт 1917— 1918 гг., когда Германия, поддержав смену власти в России, заключила с новым правительством сепаратный Брестский мир и обеспечила себе таким образом свободу рук для наступления на Западном фронте. Формула Тараса Бульбы («я тебя породил, я тебя и убью») вполне могла быть применена немцами к большевистскому режиму в России. На развалинах Советского Союза могло быть создано несколько союзных гитлеровской Германии «независимых государств» (вроде Словакии или Хорватии), которые бы обеспечивали вермахт продовольствием, сырьем для военной промышленности, вспомогательными воинскими формированиями. Однако Гитлер, в больном мозгу которого расистский бред о «неполноценности славян» причудливо мешался со страхом перед восточным гигантом, отвечал, что он не нуждается в союзе со славянскими «недочеловеками», а от вермахта требуется просто и быстро разгромить Красную Армию. Потом и вовсе перестал отвечать. Когда командующий Группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок отправил в Берлин проект создания «освободительной армии» из 200 тысяч добровольцев и формирования русского правительства в Смоленске, то его доклад был возвращен в ноябре 1941 г. с резолюцией Кейтеля: «Такие идеи не могут обсуждаться с фюрером». Для самых предвзятых и невнимательных читателей поясняю: вышеизложенное — это не рассказ о том, «как хорошо могло бы быть». Это грустные мысли о том, что все могло быть еще хуже, чем было в реальности, хотя, казалось бы, куда уж хуже? В огне мировой войны не было брода, и поражение Сталина означало бы лишь колоссальное усиление позиций Гитлера, в руках которого могли оказаться гигантские сырьевые ресурсы богатейшей страны мира, да еще и миллионы послушных, ко всему привычных, работников. Режим, который мог бы быть установлен на «освобожденной» от власти НКВД/ВКП(б) территории, скорее всего, отличался бы от сталинского лишь цветом знамен и надписями на дверях начальственных кабинетов. Впрочем, не исключено, что и фамилии хозяев многих кабинетов могли остаться прежними... К счастью для человечества, Гитлер упустил уникальный шанс, который предоставило ему многолетнее большевистское хозяйничанье в России. Он даже не попытался «подсластить пилюлю» и представить свою агрессию против СССР как «освободительный поход». Пленных красноармейцев, от которых отказалось советское государство, сгоняли как скот на огромные, опутанные колючей проволокой поляны и морили там голодом и дизентерией. Лучше всех агитаторов ГлавПУРа, вместе взятых, фашистские лидеры показали и доказали бойцам Красной Армии, что и плен не является спасением от смерти. Начатое в свое время по инициативе армейского командования освобождение пленных красноармейцев ряда национальностей было 13 ноября 1941 г. прекращено. А затем пришла ранняя и лютая зима, в которую от холода, голода и болезней погибло две трети пленных 1941 г. С такой же категоричной ясностью оккупационная администрация продемонстрировала ошеломленному населению, что формулу «Немцы — культурная нация» пора забыть, а привыкать надо к «новому порядку», который оказался даже проще старого — расстрел на месте за любую провинность. С вызывающей откровенностью народу объясняли, что обслуживание представителей «высшей расы» отныне станет единственным смыслом жизни для тех, кому разрешат жить. Разрешали не всем. Кошмарные сцены геноцида евреев, массовая гибель военнопленных, расстрелы заложников, публичные казни — все это потрясло население оккупированных областей. И даже те, кто летом 1941 г. встретил немецкое вторжение с ожиданием перемен к лучшему, ужаснулись и задумались о том, что под таким «новым порядком» жить нельзя. Да, конечно, листовки, которые в миллионных количествах сыпались с немецких самолетов, обещали солдатам Красной Армии хорошую кормежку в плену и возвращение домой после окончания войны. Но «беспроволочный телефон» людской молвы работал — и работал с удивительной эффективностью. Так с каждым днем и месяцем все новые и новые миллионы советских людей начинали осознавать, что война, на которой им приходится воевать и умирать, идет уже не ради освобождения очередных «братьев по классу» в Занзибаре, не ради окончательного торжества «вечно живого учения Карла Маркса», а просто для того, чтобы они, их семьи, их дети могли жить и надеяться на лучшее будущее. Вот тогда и началась Великая Отечественная война. Не будем упрощать. Жизнь многомиллионного человеческого сообщества бесконечно сложнее любой схемы. Предложенная выше формула («империя, скрепленная террором и террором управляемая») хотя и отражает главную доминанту сталинского государства, является предельным публицистическим упрощением реальности. Поэтическая фраза «как один человек, весь советский народ» годится только для песни. Советское общество было весьма и весьма неоднородно. Выполнить задачу форсированной индустриальной модернизации одним лишь рытьем каналов (да еще и воровством западной технологии) было невозможно. Эпоха модернизации вызвала к жизни появление многомиллионной «армии» энергичной, честолюбивой молодежи, детей дворников и сторожей, которым революция открыла дорогу на вершину социальной лестницы. Для них — молодых инженеров и стахановцев, летчиков и поэтов — советская власть была «нашей родной советской властью». Это было удивительное поколение, которое за 10—15 лет проходило путь от деревенской избы под гнилой соломенной крышей, в которой жили его родители, до лекционного зала столичного университета; от студенческой скамьи до кабинета директора огромного завода. Высокая социальная мобильность, опьяняющее ощущение того, что «время сказок пришло наяву», является, пожалуй, более мощным «социальным галлюциногеном», нежели материальный комфорт как таковой. Сталин понимал это, умело поддерживал «бурю и натиск» советской молодежи, искусно использовал честолюбивых «выдвиженцев» для обеспечения непрерывной ротации кадров на верхних этажах управленческой пирамиды. Вся мощь пропагандистской машины тоталитарного государства была направлена на формирование у советской молодежи образа осязаемого и близкого светозарного будущего, к которому «в нашей стране открыты все пути». Этот, чрезвычайно активный, хотя и относительно малочисленный, социальный слой и стал тем «резервом Главного командования», который в критический момент помог удержать сталинское государство от полного крушения. Наконец, автор вовсе не предлагает свести всю историю войны к социологии и уж тем более — к описанию психологических эффектов и аффектов. «Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?/ Не войском, нет, не польскою помогой,/ Л мнением; да! мнением народным», — говорит один из персонажей пушкинского «Бориса Годунова». Красиво сказано, но не стоит забывать о том, что армия держится не только на «мнении народном», но еще на приказе и дисциплине. Роль военачальника огромна, и там, где командиры и комиссары смогли сохранить порядок и управляемость, смогли уберечь своих солдат от заражения всеобщей паникой — там враг получил достойный отпор уже в первых боях. Такие дивизии, полки, батальоны, батареи нашлись на каждом участке фронта. Десятки тысяч бойцов и командиров Красной Армии начали свою Отечественную войну уже на рассвете 22 июня 1941 г. Оказавшиеся в хаосе всеобщего бегства без соседей, без связи — и без надежды остаться в живых, эти упрямо не сдающиеся батареи и батальоны снова и снова заставляли немцев разворачиваться из походного порядка в боевой, сбивали темп наступления, сбивали спесь врага. «На миру и смерть красна». Безымянным героям первых дней войны не досталось и этого скромного утешения. Им предстояло погибнуть в безвестности, так и не узнав, удалось ли им приблизить ценой своей жизни одну общую Победу. Большинству из них не досталось ни орденов, ни славы, ни даже надгробного камня. Но именно они своим жертвенным подвигом спасли страну. Они выиграли то драгоценное время, которое было необходимо для того, чтобы глубинный переворот в отношении народа к войне мог состояться. Не будем забывать и об огромном масштабе материально-технической подготовки Красной Армии, о количестве и качестве советского вооружения. Даже взвод (3 машины) танков КВ мог расстрелять и раздавить механизированную колонну вермахта, даже один гарнизон дота, укрытый несокрушимыми бетонными стенами, мог усыпать весь берег пограничной реки трупами немецких солдат... Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и природно-географический фактор. Его не следует абсолютизировать, но и нелепо отрицать тот факт, что сами огромные пространства России поглощали и растворяли армию захватчиков. Наполеону было легко. Его армия, вытянувшись в нитку, шла колонной на Москву. Вермахт начал наступление на фронте от Каунаса до Перемышля (порядка 700 км по прямой), а к концу года бои шли уже на фронте от Тихвина до Ростова-на-Дону (1600 км по прямой). Коммуникации немецкой армии непрерывно растягивались. Каждый снаряд и каждый литр бензина должен был преодолеть гигантское расстояние в полторы-две тысячи километров, прежде чем дойти до фронта. Эти линии коммуникаций надо было охранять, обеспечивать противовоздушной обороной, гарнизонами. А с наступлением осени грунтовые дороги центра России и вовсе превратились в сплошное море непреодолимой для техники вермахта грязи. Упустив вполне реальную возможность для ликвидации Восточного фронта политическим путем, Гитлер не удосужился и тем, чтобы максимально использовать весь наличный военный потенциал для достижения победы на поле боя. Десятки дивизий вермахта, сотни тысяч военнослужащих, миллионы резервистов в глубоком тылу готовились к «операциям периода после «Барбароссы» в то время, когда войска Восточного фронта таяли в ожесточенных боях. Даже те относительно умеренные потери, которые летом 41-го года несли немецкие войска, не возмещались в полном объеме пополнением техники и личного состава. Немцы не дошли до Москвы. Обескровленные многомесячными боями дивизии вермахта на последнем издыхании доползли до нее. Там, в белоснежных полях под Москвой, замерзающие остатки Восточной армии были разгромлены десятками свежих дивизий Красной Армии, переброшенными из Сибири и Дальнего Востока. Наше повествование подошло к завершению. Осталось только ответить на тот вопрос, что вынесен в название последней главы. Разумеется, не может быть и речи об установлении какой-то точной даты «Великого Перелома». Нет таких «выключателей», которые в одно мгновение способны произвести глубинный переворот в сознании огромного многонационального народа. И тем не менее некоторые, вполне рациональные критерии и обоснованные временные рамки указать можно и нужно. Откроем еще раз статистический сборник «Гриф секретности снят». На этот раз — на странице 152. Там приведена таблица безвозвратных (убитые и пропавшие без вести) и санитарных (раненые и больные) потерь личного состава действующей армии с разбивкой по кварталам каждого года войны. Печальный опыт великого множества военных конфликтов XX века показывает, что есть некое, весьма стабильное, соотношение числа убитых и раненых в боевых действиях — 1 к 3. На одного убитого приходится трое раненых. К слову говоря, именно в таких пропорциях сложились и потери вермахта в 1941 г. Возможно, эти цифры отражают некое фундаментальное соотношение между «прочностью» человеческого организма и поражающим воздействием оружия первой половины XX века. Как бы то ни было, в ситуации «нормальной войны» (простите за такое циничное выражение) доля санитарных потерь должна составлять 75% от общего числа потерь. Точнее говоря, она должна быть даже больше 75%, так как кроме раненых есть еще и заболевшие, и их бывает не так уж мало среди людей, живущих месяцами в залитых грязью окопах. А что же показывает нам таблица № 72? В третьем квартале 1941 г. (т.е. за первые три месяца войны) доля санитарных потерь составила всего 24,66% от всех потерь. Другими словами, соотношение безвозвратных и санитарных потерь оказалось не 1 к 3, а 3 к 1. Это очень мрачное «чудо». За ним стоит огромное количество пленных и дезертиров (которые и составили основную часть безвозвратных потерь Красной Армии летом 1941 г.), за ним стоит трагедия брошенных на растерзание врагу раненых, которых не вывезли в тыл и, следовательно, не учли в графе «санитарные потери». В четвертом квартале 1941 г. доля санитарных потерь увеличилась почти в два раза — 40,77%. Такие пропорции еще очень и очень далеки до ситуации в нормальной, воюющей армии, но тем не менее перемены очевидны. В первом квартале 1942 г. — уже 65,44%. Это почти «норма». Во втором и третьем квартале — соответственно 47,48% и 52,79%. Немцы перезимовали, восстановили силы и снова погнали многотысячные колонны пленных из «котлов» у Керчи и Харькова. Но, заметим, чудовищная ситуация лета 1941 г. более уже не повторилась! К концу 1942 г. доля санитарных потерь возрастает почти до «нормальной» величины в 67,25%. Далее, вплоть до победного мая 1945 г. идут такие цифры: 79, 75, 76, 77, 79, 78... Наличие принципиального, качественного изменения структуры потерь не вызывает ни малейшего сомнения. Переход от 3 к 1 до 1 к 3 не может быть объяснен погрешностями статистических измерений. Налицо качественное изменение состояния армии, произошедшее на рубеже 42—43-го годов. Армия перестала «разбредаться», вследствие чего доля пленных и дезертиров снизилась до единиц процентов от общих потерь. Я прошу прощения у всех, кого невольно обидел этой циничной арифметикой людского горя. Поверьте, я понимаю всю кощунственность «игры в проценты», когда за этими процентами — миллионы убитых и изувеченных людей. Но что делать — работа военного историка немногим привлекательнее работы патологоанатома. Поверьте, историк и патологоанатом делают то, что они делают, не из-за нездорового пристрастия к трупному смраду, а для того, чтобы установить окончательный, всегда запоздалый, но максимально точный диагноз. Не меньшее «диагностическое значение» имеет и динамика развития партизанского движения на оккупированных территориях Советского Союза. К сожалению, здесь нам не удастся назвать точные цифры — сама специфика партизанской войны исключает возможность ведения точного персонального учета «личного состава», да и тема партизанской войны по сей день остается огромным «темным пятном» в отечественной историографии. Тем не менее даже из немногих доступных источников [144, 151, 156, 161] вырисовывается картина радикального изменения ситуации на оккупированных территориях, произошедшего в 1942—1943 гг. «...Большинство партизанских отрядов (созданных в Белоруссии к сентябрю 1941 г. — М.С.) полностью формировались из сотрудников НКВД и милиции, без привлечения местных жителей, связь с партийно-советским активом не была установлена... В дальнейшем, в процессе создания обкомами партии партизанских отрядов из числа местного партийно-советского актива, их руководящее ядро по-прежнему составляли оперативные сотрудники НКВД... В конце 1941 г. и в начале 1942 г. продолжалось создание и заброска (т.е. созданные на советской территории диверсионные группы переправлялись через линию фронта. — М.С.) партизанских формирований... Основой для формирования партизанских отрядов по-прежнему являлись оперативные работники НКВД и милиции, агентура органов госбезопасности... ...Общая картина такова. На февраль 1942 г. органы НКВД совместно с партийными органами подготовили и перебросили в тыл врага 1798 партизанских отрядов и 1533 диверсионные группы общей численностью 77 939 человек. Если исходить из того, что в 1941 г. общее число партизан на оккупированной территории составило около 90 тыс. человек, а число партизанских отрядов — 2 тысячи, то получается, что 90% было подготовлено органами НКВД. Они же и руководили ими» [151, стр. 71, 76, 82, 83]. Итак, на начальном этапе войны (до весны 1942 г.) отряды «народных мстителей» состояли вовсе не из подростков и стариков с охотничьими ружьями — как это было принято изображать во всей советской мифологии, — а из «оперативных сотрудников» карательных органов. Число партизан из числа местных жителей-добровольцев не превышало 10—15 тыс. человек, т.е. было в десятки раз (!!!) меньше численности «полицаев» и «хиви». Таким было начало партизанской войны. В дальнейшем ситуация значительно изменилась. Причем в прямо противоположном от ожидаемого направлении: «...УНКВД по Ленинградской области направило в тыл противника 287 отрядов общей численностью 11 733 человека. К 7 февраля 1942 г. из них осталось всего 60 отрядов численностью 1965 человек, т.е. около 17% ... ...На Украине органы госбезопасности оставили в тылу врага и перебросили туда 778 партизанских отрядов и 622 диверсионные группы общей численностью 28 753 человека. Однако по состоянию на 25 августа 1942 г. действующими значились только 22 отряда, насчитывающие 3310 человек. Следовательно, за 12 месяцев войны уцелели менее 3% партизанских отрядов и групп из числа заброшенных в тыл врага в 1941 г... ...В Белоруссии к январю 1942 г. из 437 групп и отрядов, которые были заброшены в тыл противника, прекратили свое существование 412, или 95%. ...В первую же военную зиму почти все крупные формирования, насчитывающие несколько сотен человек, были уничтожены либо распались на отдельные группы... К середине 1942 г. численность партизан составляла 65 тысяч человек...» [151, стр. 82, 158, 174]. Приведенные выше цифры дают конкретный и исчерпывающий ответ на вопрос об отношении населения оккупированных немцами территорий СССР к «народным мстителям» из числа «агентуры органов госбезопасности». В такой обстановке разгром большей части партизанских групп, созданных в первый год войны, был вполне закономерным. По замыслу советского руководства, эти небольшие отряды (средняя их численность составляла 20—25 человек) должны были выполнить роль «центров конденсации», вокруг которых должны были собраться, образно говоря, «тучи». Фактически же численность партизан не только не выросла, но к лету 1942 г. даже сократилась в полтора раза. И это несмотря на то, что площадь оккупированных территорий заметно увеличилась после тяжелейшего поражения у Харькова и прорыва немцев к Сталинграду и Моздоку. Особенно впечатляющей является динамика изменения численности партизанских формирований на Украине, где они были практически полностью уничтожены. Подлинно массовый характер народная война с захватчиками приобрела лишь в 1943—1944 гг. Так, в Белоруссии, где наличие огромных лесных массивов создавало особо благоприятные условия, численность партизан уже в апреле 1943 г. составляла 68 498 человек. Всего к 1 апреля 1943 г. на всей занятой немцами территории насчитывалось ПО 889 партизан. По отчету Центрального штаба партизанского движения по состоянию на 1 июня 1943 г. на связи у штабов партизанского движения был 1061 отряд общей численностью в 142 ООО бойцов. Наконец, к январю 1944 г. численность партизан Белоруссии достигла 122 тыс. человек, а всего зимой 1944 г. в тылу врага сражалась целая «партизанская армия» общей численностью в 200 тыс. человек. Значительно возросла и результативность боевых действий партизан. Так, анализ, проведенный после войны на основе трофейных документов вермахта, показал, что из 18 тыс. эшелонов, потерпевших крушение в результате диверсий на железных дорогах, 15 тыс. были атакованы в 1943—1944 г. Накануне операции «Багратион» — крупнейшей наступательной операции Красной Армии, закончившейся освобождением большей части Белоруссии и разгромом немецкой Группы армий «Центр», — в ночь на 20 июля 1944 г. партизаны подорвали 40 тысяч рельсов, полностью парализовав всякое железнодорожное сообщение в тылу вражеских войск. В период 1943—1944 гг., когда каждый немецкий гарнизон, каждая автоколонна, каждый железнодорожный эшелон находились в состоянии постоянного ожидания нападения, газетный лозунг «Земля горит под ногами оккупантов» стал осязаемой реальностью. Разумеется, приведенные выше цифры и факты могут рассматриваться лишь как один из первых возможных подходов к оценке ситуации. Но даже с учетом всех этих оговорок факт принципиального, качественного изменения обстановки на оккупированных территориях, стремительного роста партизанского движения, обозначившийся в начале 1943 г., очевиден и бесспорен. Суммируя все вышесказанное, ориентировочные временные рамки, в которых состоялся «Великий Перелом», можно определить так: осень 1942 г. — лето 1943 г. В переводе на общепринятую хронологию войны — от Сталинградской битвы до Курской дуги. |
|
||
|
Главная | Контакты | Нашёл ошибку | Прислать материал | Добавить в избранное |
||||
|
|
||||
