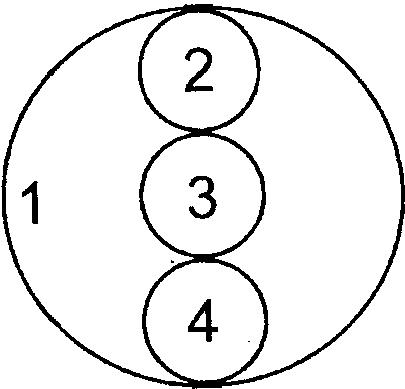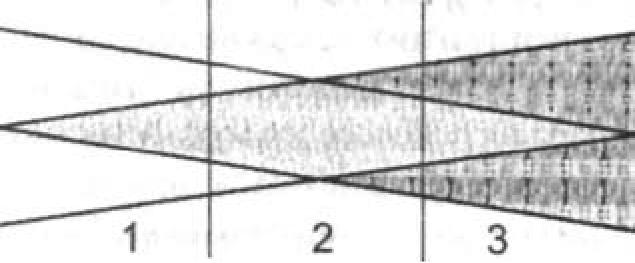|
||||
|
|
Раздел IV. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ Иногда термин «Возрождение» понимается в широком смысле как период быстрого и интенсивного культурного развития, приходящий на смену длительным периодам духовной и творческой инертности. В этом широком смысле говорят о Каролингском Возрождении VIII — IX вв., о Возрождении XII в., связанном с подъемом городской жизни в Европе, а также о грузинском, иранском, армянском, арабском, индийском, китайском «Возрождении». В узком смысле слова «Возрождение» — это возрождение идеалов и ценностей античной культуры, начавшееся в XIV в. в Северной Италии и в XVI в. охватившее большую часть Западной Европы. «Возрождение» (как и «Средние века») — категория не столько хронологическая, сколько духовная. Именно в области духовной жизни лежит основание своеобразия этой эпохи, позволяющее четко отграничить ее как от Средних веков, так и от Нового времени. Если не учитывать это своеобразие, то придется присоединить Возрождение либо к Средним векам, либо к Новому времени, либо свести к несамостоятельному переходному периоду между этими двумя великими эпохами. Оправдание материи и почитание природы. Главной чертой духовного своеобразия Возрождения является глубокое почтение к природе и к каждому проявлению жизни как к символу, образу Абсолюта. Средние века познавали Бога, уходя от мира, Новое время познавало мир, уходя от Бога, и лишь Возрождение, познавая мир, познавало Бога — не «от следствий к причине», как у Фомы Аквинского, а от образа к Прообразу, от знака к смыслу. Бруно и Кампанелла, умирая и подвергаясь пыткам, которые бывали страшнее смерти, отстаивали не свой частный взгляд на истину и не свое право познавать мир научно, они отстаивали божественное достоинство человека и мира и каждой вещи в нем. Причем отстаивали даже не столько перед лицом инквизиции, а перед лицом появляющихся дельцов, которым природа нужна была в нераздельное пользование. Изменение отношения к природе, произошедшее в эпоху Возрождения, можно проиллюстрировать крылатым изречением Николая Кузанского: «Вселенная — это сфера, центр которой — везде, а окружность — нигде»[14]. Для сравнения, в Средние века Вселенная считалась, в соответствии с метафизикой Аристотеля и космологией Птолемея, ограниченной непроницаемой «сферой неподвижных звезд». Беспредельность пугала и разум, и воображение. Земля, хотя и считалась центром мироздания — но все же худшей его частью (как «подлунный мир», низшая сфера, куда свет Единого доходит в наиболее преломленном виде), поэтому она недостойна того чтобы ее познавать и совершенствовать — все чаяния и устремления человека должны быть связаны с Небесами и посмертным воздаянием. От земли нужно просто бежать — per aspera ad astram, к звездам духа через тернии материи. В Новое время, наоборот, у Вселенной, образно говоря, не стало ни «окружности», ни «центра»: беспредельность ее была признана разумом, но она по-прежнему не только не влекла, но пугала разум и волю, требовала вооружиться против неизвестного доспехами науки. «Нет центра» — значит нет точки отсчета, нет смысла, нет опоры для жизни. Только в эпоху Возрождения беспредельность непознанного влекла человека, вдохновляла его на подвиг познания, так как он знал, что Бог присутствует в природе повсюду («центр — везде»), а значит человек повсюду найдет в природе опору, жизнь и смысл. Современная наука знает только одну форму жизни — белковую, и только одно небесное тело, имеющее ее — Землю. Потому Космос должен казаться мертвой бездной, где лишь изредка на миг вспыхивают искры жизни. Мыслители Возрождения знали о бесконечно разнообразных формах живых существ, потому считали любой мир пригодным для жизни — и планеты, и звезды. Для них Космос был прекрасным населенным городом, где царят согласие и любовь. В отношении к природе Новое время, по крайней мере до немецких романтиков XIX века и Шеллинга, ближе к Средним векам, чем к Возрождению: к природе относились с высокомерием или в лучшем случае с безразличием или снисхождением. Все ее назначение — служить нуждам человека, причем преимущественно материальным нуждам. И только Возрождение восхищается природой и преклоняется перед ней, а главная потребность, с которой человек обращается к ней, — жажда истинного познания. Познания природы, а через нее — познания самого себя и познания Бога, ее Творца. Поскольку во все века женщина считалась более близкой природе, чем мужчина, и причастной ее порождающей силе, то все, что было сказано выше о природе, можно отнести и к женщине. В Средние века женщина — «сосуд зла», ее нужно по возможности избегать или обуздывать. А в Новое время — до немецких романтиков — она уже «развенчана», лишена ореола таинственности. И только в эпоху Возрождения именно земная женщина, возлюбленная, жена и мать, была объектом почитания как проявление порождающего, творящего аспекта Божества — отсюда потрясающе земные непревзойденной красоты образы Мадонн Возрождения. Среди других основных черт духа Возрождения можно назвать следующие. «Деварваризация». Сколь бы ни были высоки культурные достижения молодых, преимущественно германских, народов, пришедших на европейской арене на смену грекам и римлянам, все же в сознании передовых мыслителей Возрождения вся эпоха после Античности представлялась эпохой варварства. Пробуждением от него Европа во многом была обязана Востоку. В века, предшествующие Возрождению, именно арабо-мусульманский мир, простиравшийся от Португалии на западе до Индонезии на востоке, был носителем передовых культурных ценностей и традиций. Уже в эпоху крестовых походов, оказавшись в самом сердце мусульманского мира, европейские рыцари многому учились у своих просвещенных противников. Установленные затем торговые отношения с арабскими странами становились также каналами передачи культурных ценностей, художественного вкуса, философских и научных идей. Средневековые ценности, средневековые традиции, уровень образования, сам язык — «простонародная латынь», вульгата, ощущались итальянскими гуманистами как постыдные пережитки варварства. «Подлинное благочестие» — поиск живого контакта с Богом. Еще в эпоху крестовых походов, посещая места жизни и смерти Иисуса, европейские паломники переходили от несколько застывшего благочестия, свойственного, например, клюнийским монахам XI в., к более живому и эмоциональному переживанию евангельской истории. Затем появились великие святые — св. Бернар и св. Франциск Ассизский, давшие новые образцы благочестия как огненного устремления духа, сметающего все официальные границы. В XIV —XV вв. религиозное самосознание и религиозный опыт европейцев достигли напряженности и остроты, неведомой ни Средним векам, ни Новому времени. Простые люди горячо обсуждали тонкости вероучения. Из города в город ходили толпы флагеллантов[15]. Внешние формы религиозности уже не удовлетворяли религиозное чувство. Наступает время поисков внутренней связи с Творцом в собственной душе. В религиозном самосознании передовых мыслителей Возрождения вся прежняя эпоха христианства представала теперь как темное суеверие, которое наконец-то сменяется «благочестием». В конце XV в. Аонио Палеарио писал, что души человеческие словно пробудились ото сна, и «издревле идущее суеверие, выдававшее себя за благочестие», распространившееся вместе с тьмой варварства, сменилось «истинным благочестием». Время великих открытий. Эпоха Возрождения была поворотной как в культурной жизни, так и в развитии цивилизации. В XV — XVI вв. были сделаны открытия, изменившие до основания ход жизни народов европейского континента, вызвавшие ускорение ритма жизни и расширение масштабов деятельности от узко местных до мировых. Главные среди этих открытий — компас, порох и книгопечатание. 1) Компас. Открытие компаса позволило мореплавателям пуститься в рискованные плавания через океаны, в неизведанное. Узкие границы средневекового мира были взломаны великими географическими открытиями, и хрустальная сфера неподвижных звезд, сковывавшая Вселенную, была разбита. Человеческая мысль вышла из «мирового яйца» и устремилась в беспредельность. Человек вновь начинал ощущать себя «гражданином мира», складывалось «глобальное мировоззрение». 2) Порох. Открытие Европой пороха (давно известного в Китае, как и компас) сразу же было использовано для создания новых разрушительных типов вооружения — пушек и стрелкового оружия. Венецианский арсенал, полный пушек и ядер, вошел в легенды как символ военного могущества Венеции и опоры ее торговых и культурных связей с Востоком. 3) Книгопечатание. Первые книги вышли в Европе в XV в. в Германии (так наз. инкунабулы), но тогда они были еще сравнительно редки и дороги. В XVI в., как с гордостью утверждает Томмазо Кампанелла, вышло больше книг, чем их вышло за предыдущие 5000 лет, и это, скорее всего, правда. Общие черты философии Возрождения Зачастую главными достижениями этой эпохи считаются лишь великие творения живописи, скульптуры, архитектуры, религиозная реформа Лютера, а в области философии великий дух эпохи проявился якобы недостаточно или не проявился вовсе. Надеемся, из нижеследующего изложения станет очевидно, что это не так. Возрождение античной философии — первая заслуга философии Возрождения. Хотя произведения многих латинских античных авторов были известны и в Средние века, но переписывались и трактовались они на вульгате — простонародной, испорченной латыни, из которой впоследствии развился итальянский язык, и использовались в основном для схоластических штудий. Оригиналы же греческих текстов были практически неизвестны и невостребованы. С самого начала Возрождения гуманисты страстно искали оригинальные греческие и латинские тексты, переписывали их (а с распространением книгопечатания в XV — XVI вв. — печатали), изучали, сравнивали, подвергали филологической критике. До конца XVIII в. европейские философы знакомились с античными авторами по переводам, сделанным в эпоху Возрождения. Тремя основными тенденциями (иногда — этапами) философии Возрождения принято считать 1) гуманизм; 2) неоплатонизм; 3) натурфилософию. Периодом расцвета гуманизма считается промежуток от середины XIV до середины XV в., неоплатонизма — от середины XV до первой трети XVI, натурфилософии — остаток XVI в. Но гуманизм не перестал быть свойственным мыслителям Возрождения с развитием неоплатонизма, он просто принял другую форму, более философскую и теоретически обоснованную, сохранив все свои основные положения. «Гуманистами» в широком смысле можно назвать почти всех мыслителей Возрождения, включая неоплатоников и натурфилософов. Аналогичным образом неоплатонизм не был вытеснен натурфилософией, но вошел в нее в «снятом» виде. Античный неоплатонизм возродился к жизни, возвышенный и облагороженный христианством. В неоплатонизме Плотина и Прокла Единое Божество неспособно воплотиться в конечном существе материального мира, поэтому античные неоплатоники с большим недоверием отнеслись к христианскому вероучению, в котором таинство Боговоплощения открыло возможность иного понимания материи: если материя способна вместить Бога во всей полноте совершенства, значит, она не является, по определению, «недостатком бытия», началом греха или зла, тьмой, побеждаемой светом, но активной творческой силой, исполняющей все замыслы Творческого Ума. Правда, такое переосмысление материи не было реализовано в христианской догматике в первые века христианства, но философы Возрождения исходили именно из такого понимания христианства в своем оправдании материи. Натурфилософский пантеизм. Большинство представителей философии Возрождения могут быть названы в том или ином смысле «пантеистами», если считать пантеистическим тезис Дионисия: «Бог есть все во всем и ничто из всего». Но пантеизм Возрождения отличается от пантеизма, например, Спинозы, тем, что Бог — не только «начало» и «конец», но и «середина» Вселенной в целом и каждой вещи: начало — как первопричина и бесконечно глубокое основание бытия и сущности; конец — как предел совершенства, цельвсех стремлений и всеохватывающая целостность универсума; и середина — как индивидуальная сущность каждой вещи, рассмотренная «с точки зрения вечности». Индивидуальность каждой вещи заключается в том, каким образом Бог (бесконечная основа) развертывает себя в данной вещи. Отсюда следует вывод, имеющий огромное мировоззренческое значение, об абсолютной значимости каждой индивидуальности: чем больше в существе индивидуального, неповторимого, тем отчетливее в нем проявляется «луч Света Божества», которым оно является. Весь мир и каждая его частица выражают собой атрибуты Божества. Так, Кампанелла провозглашает: «Весь мир и всякая его частица состоит из мощи, мудрости и любви». Это три так называемых «прималитета» — три главных совершенства Бога, соответствующие его трем ипостасям. Данте Великий Данте Алигьери (1265 — 1321) во многом предвосхитил идеи и ценности Возрождения. Картина мира, как он представлен в «Божественной комедии», еще вполне средневековая, и есть результат соединения птолемеевско-аристотелевского геоцентризма и католической теологии. «Объективные» пространство и время не существуют в этой картине, они заменены иерархическими отношениями ценностей: что важнее, то и раньше, и ближе. За сферой неподвижных звезд — огненный Эмпирей, и в вершине Иерархии — Троица. И все же целый ряд признаков позволяет говорить о Данте как о предтече идей Возрождения. Предназначение человека — не только к небесному блаженству, к которому ведет религия, но и к земному, даруемому философией. Земное блаженство предполагает возможность достижения на земле наивысшего возможного совершенства, то есть, «обожения» (неоплатонический теозис) — не чере.з отказ от земного, а через возведение его к совершенству посредством знания и творчества. Данте бросает человеку гениальный и пророческий призыв к благородству, подвигу и доблести не ради отвлеченного Бога, но ради божественной Любви. К созерцанию Троицы поэта ведет Беатриче («Блаженство») — олицетворение божественной Любви в облике земной женщины. Один из главных мотивов «Комедии» — призыв к активной деятельности на земном поприще. Бездеятельных у Данте не впускает даже Ад, и они после смерти молят о смерти, но обречены вечно брести по месиву из собственной крови, слез и поедающих все это червей. Гуманисты Возрождения Сам термин «человечность» (humanitas) ввел в обращение Цицерон для обозначения того качества, которое римская культура унаследовала от греческой. Затем это понятие использовали ранние Отцы Церкви, противопоставляя нарождающуюся христианскую мораль как более человечную, деградирующим нравам империи. Родоначальником гуманистического движения в Италии можно считать Франческо Петрарку (1304— 1374), первого поэта общеевропейской славы, к которому прислушивались папы и короли. Он одним из первых дал пример «гуманиста» как занимающегося «гуманитарными» науками (прежде всего собирание, перевод и комментирование античных текстов, филологическая критика и философия). На Западе значение термина «гуманизм» часто и сводится к этим занятиям. Но сами мыслители Возрождения понимали его гораздо шире и глубже — прежде всего как утверждение достоинства человека и его благородства. Добродетель-доблесть. Одна из основополагающих характеристик Возрождения — восстановление и возвышение античного понимания добродетели как доблести[16]. В Средние века господствовало христианское представление о добродетели как заслуге чисто духовной жизни, евангельском «сокровище на небесах». В жизни светской почти всегда безраздельно господствовали жестокость, коварство и подлость властителей, в то время как подданные предпочитали терпеть все их злодеяния, надеясь заслужить небесное воздаяние. Мыслители Возрождения начали с того, что перенесли добродетель на почву реальной деятельной жизни, требуя от человека-творца наивысшего духовного и волевого напряжения («энтузиазм» Бруно). Так, Поджо Браччолини (1380—1459) призывает тех, «у кого в сердце музы», развивать науки и искусства «со всем усердием и душевным напряжением». «Доблесть даст тебе крылья», — пишет Петрарка, — крылья для благородного подвига. Доблесть противопоставляется родовым заслугам и наследственному социальному статусу: «Доблесть проявляется не в том, что уже сделано, но в том, что должно быть сделано» (2: 101 — 102). Она «никогда не успокаивается, всегда находится в действии и всегда, словно перед началом боя, держит оружие наготове» (Там же). Одной из основ гуманизма было восхваление человеческого творчества. Творчество — не только прерогатива Бога, но и человек в творчестве может уподобиться Богу. Более того, мир, сотворенный Богом, иногда рассматривается гуманистами лишь как материал для творчества человека, и только человек своим трудом придает творениям Бога образ совершенства. Гражданственность. В отличие от Средних веков и подражая Риму, итальянские гуманисты, еще осознающие себя наследниками римских государственных деятелей, призывали проявлять доблесть не только в духовной жизни, в борьбе с собственными пороками, но и на поприще гражданской жизни — со рвением и усердием стремясь ко благу государства. Образцами такой деятельной добродетели-доблести в гражданской жизни стали канцлеры-гуманисты Флорентийской республики — Колюччо Салютати (1331 — 1406), за 30 лет канцлерства воспитавший целую плеяду блистательных гуманистов, и Леонардо Бруни (1374— 1444). Благородство. Многие трактаты гуманистов Возрождения посвящены теме благородства (nobilitatis). Работы «О благородстве» писали Верджерио, Браччолини, Манетти и другие авторы. Понятие благородства было особенно важно для гуманистов, поскольку выражало новый идеал человека и его достоинства. В жизни многих гуманистов явным или неявным препятствием на их пути вставало старое представление о благородстве и достоинстве, основанных на знатности рода, обладании землей и имениями, богатстве, военных подвигах. Деление на «благородных» и «неблагородных» было в те времена очень значимым: звание «благородный» давало определенное положение в обществе, открывало многие двери, например право добиваться руки знатной девушки, занимать почетные должности и так далее. Гуманисты доказывают, что «благородство не извне приходит, но исходит от собственной добродетели» (2: 161). «...Это ваше благородство — всего лишь некий блеск и пустое чванство, выдуманное людской глупостью и тщеславием». «Я (сам) одобряю взгляд стоиков, который кажется мне наиболее верным»: «благородство рождается из одной лишь добродетели» (2: 172). Достоинство-благородство, хотя не исключает условий богатства и знатного происхождения, понимает их лишь как благоприятные предпосылки для подлинного достоинства, которое включает в себя духовность, культурность, добродетель и «правила жизни». «Правила жизни» — так гуманисты называют то, что стало пониматься под «добродетелью» позднее, в развитом буржуазном обществе, и что по сути представляет собой порядочность: честность, аккуратность, даже пунктуальность в исполнении своих обязанностей перед торговыми партнерами и государством. «Добродетель» для гуманистов все еще сродни, как в Античности (и греческой, и римской), доблести — которая есть мужество, бесстрашие, подвижничество, «рвение при исполнении долга». Ренессансное понимание бессмертия. Духом благородства и доблести проникнуто также отношение мыслителей Возрождения к посмертной судьбе души. Бесчеловечным считали они предавать вечным мукам, тем более за грехи перед «божьими наместниками» — папой и его слугами. Античное понимание бессмертия было им более близко: бессмертно в человеке только то, что и при жизни было неподвластно времени и временному, — напряженное, героическое стремление к Истине, Благу, Красоте. Подчеркивалось, что только напряженное устремление могло «кристаллизовать» в сердце человека лучи Божественного Света. Единообразие человеческой природы. Другой общей чертой духа Возрождения было убеждение в единообразии человеческой природы и, соответственно, о потенциальном равенстве всех людей. Уже Никколо Никколи, друг Поджо Браччолини, опирается на этот тезис как на общее место, не требующее доказательств, тогда как и Платон, и Аристотель, учили, напротив, о врожденном природном отличии людей по качеству их души. Католическая иерархия, не ссылаясь прямо на эти авторитеты, также предполагала различное достоинство священников и мирян, исходящее, правда, не от природы, а от Божьего благословения, передаваемого Церковью. Гуманисты Возрождения опирались прежде всего на стоицизм, утверждавший равенство всех людей перед Богом как «граждан Космоса», а также на раннее христианство, с его духом братства. Не отрицая фактические различия в природе людей, их физических, умственных и творческих способностях, гуманисты подчеркивали равные для всех возможности совершенствования: «Из любого состояния позволено подняться над судьбой» (Салютати). Оправдание человеческой природы. Против догмата первородного греха. Мыслители Возрождения не были, как иногда представляют, безбожниками или язычниками. Не были они и «антиклерикалами» (противниками Церкви). Хотя институт монашества они отвергали как противный развитию жизни, многие из мыслителей Возрождения занимали посты в иерархии Церкви, а ранние гуманисты, во главе с Петраркой, искали «милых их сердцу каноникатов» (доходных приходов), которые давали им наибольшую возможную в те времена свободу для их гуманитарных занятий.Не утеряли они и духовную связь с христианством. Так, в душе Петрарки до самой смерти шла борьба между жизнелюбием Возрождения и христианским идеалом «ухода внутрь себя», ярче всего выраженным Августином: noli foras ire, in te ipsum redi, in interior hominem habitat veritas («Не ищи ничего вовне, читай в самом себе, во внутреннем человеке обитает Истина»). Гуманисты открыто исповедовали Христа, таинства Боговоплощения, Воскресения, причастия и др. Но дух учения Христа они понимали во многом иначе, чем представители официального Ватикана. Главным пунктом расхождений был догмат о «первородном грехе». Трудно переоценить влияние этого догмата на мировоззрение, миро- и самоощущение верующих того времени. Человек приучался смотреть на свое тело с омерзением, граничащим с ужасом: ведь от тела, поскольку оно «рождается во грехе» и наследует первородный грех Адама и Евы, исходит опасность потерять вечную душу или обречь ее на вечные муки ада. Отсюда учение Церкви о презрении к ничтожеству человека, из которого могут возвыситься лишь священники, с помощью благодати, передаваемой по церковной иерархии. Особенно опасной для спасения души считалась женщина — «сосуд греха», «слуга дьявола», вольный или невольный, сознательный или бессознательный искуситель мужчины. В Средние века церковное руководство особенно культивировало такое отношение к телу и к женщине — в XIII в. был очень популярен трактат папы Иннокентия III (1198 — 1216) «О презрении к миру, или о ничтожестве человеческого состояния» (3: 117—130). Используя множество ссылок на Писание, автор убеждает читателя в несчастном жребии человека на земле. (Например, в Писании сказано, что ребенок начинает плакать с момента рождения, а смеяться — лишь на сороковой день, и так далее). Сами чувства человека, по существу, объявляются порочным источником зла. Наиболее счастливыми оказываются, с точки зрения Иннокентия III, неродившиеся младенцы. Гуманисты не отрицали прямо догмат о первородном грехе, но своим толкованием практически полностью уничтожали его значение. «...Конечно, все рождаются в грехе. Старайся не прибавить (к этому греху) более тяжких, хотя очищение есть и от них». И далее следует почти еретическое: «А тот первый грех часто смывается на самом пороге жизни и ослепительная чистота наполняет душу» (2: 127). Гуманисты ставят своей задачей уменьшить воздействие этого догмата на самосознание верующих, и их произведения полны ободряющих заверений: «От греха одного не гибнет слава другого...» (2: 128); «До рождения ты ничего не заслужил — ни славы, ни бесчестия» (2: 129) — пишет Петрарка. Эти увещания продолжают все последующие гуманисты. Буонаккорсо Монтеманьо уверяет человека: «Душа людей сама по себе чиста и свободна». Подтверждая свои мысли ссылками на Писание, гуманисты отстаивают высшее, даже божественное достоинство человека. Петрарка использует с этой целью догмат Боговоплощения: Бог, послав Своего Сына на Землю, избрал для Его воплощения не тело ангела, но именно тело человека, тем самым показав, что тело как таковое не является источником греха. «Невыразимое благочестие и смирение Бога (выразившееся в Боговоплощении) — высшее счастье и слава человека, во всех отношениях возвышенное и сокровенное таинство, удивительная и благотворная связь, которую не знаю как небесный, но человеческий язык выразить не может» (2: 133). Более того, человек уже в этой жизни не лишен божественного достоинства: Христос воплотился в человеке, «чтобы, сделавшись человеком, сделать человека богом». «О чем,спрашиваю, более возвышенном может помышлять человек, если не о том, чтобы стать Богом? Вот он уже Бог (ecce jam Deus est)». Это соответствует евангельскому учению: «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (Ин., 10: 34). Также человек есть единственное существо (из смертных), наделенное бессмертной душой, поэтому лишь человека смерть не уничтожает бесследно. Человек — плод божественных трудов, неужели он может пропасть или быть ничего не стоящим? Тогда труд Бога был бы напрасным. «Вы — Божий урожай, который должен провеиваться на току судилища и ссыпаться в амбар Высочайшего Отца» (2: 134). В догмате о Воскресении из мертвых Петрарка подчеркивает, что люди воскресают вместе с телами, — следовательно, обладание телом есть необходимое условие полноты, совершенства человека. «Пусть оно (тело) бренно и слабо, однако имеет приятный вид, выпрямлено и способно к созерцанию неба... Есть надежда, что после смерти возродится и тело, станет легким, светящимся, непорочным, им можно будет пользоваться с еще большей славой. И оно превзойдет не только человеческое, но и ангельское достоинство» (2:133). В своем толковании догмата Воскресения Петрарка балансирует на грани ереси: тогда «сама человеческая природа будет соединена с божественной так же, как у того, кто был Богом и стал человеком», т. е., все люди станут равными Христу, и обладание телом не будет этому помехой. Поджо Браччолини сформулировал общее убеждение всех гуманистов в непорочности природы: «То, что присуще нам от природы, меньше всего заслуживает порицания». После Петрарки многие его аргументы в защиту «чести и достоинства» человека повторялись в той или иной форме другими гуманистами — Джаноццо Манетти, Поджо Браччолини, Пико делла Мирандола. Лоренцо Валла (1407 —1457) представляет гуманизм в новой форме. Для Баллы главные авторитеты уже не стоики и Отцы Церкви, а Эпикур и Лукреций, хотя Валла так же старается «христианизировать» этику Эпикура, как ранние гуманисты — стоиков. В своей главной работе, «Об истинном и ложном благе» (1831) он называет наслаждение единственным подлинным благом. Это наслаждение, во-первых, телесное — за отрицание его ценности Валла критикует стоицизм и христианский аскетизм. По мнению Баллы, истинное христианство не имеет ничего общего с аскетизмом: Творец создал в мире столько возможностей для наслаждения, что «Провидение Божье было скорее эпикурейским». Полнота чувственной жизни — необходимое условие полноты жизни души. «Почему у меня только пять чувств, а не пятьдесят или пятьсот!» — восклицает философ. Также и после смерти возможность для телесного наслаждения сохраняется в Раю, где мы получим тела совершенные и нетленные. Но телесное наслаждение должно быть дополнено наслаждением души, или духа, которое даруется добродетелью, творчеством и познанием. Правда, добродетель у Баллы имеет совсем иной смысл, чем у стоиков или в христианстве. Поскольку главная ценность для всего живого — сохранение своей индивидуальности, то «добродетель» есть то, что приносит пользу индивидуальности. Поэтому, например, самопожертвование бессмысленно. «Даже Богу нельзя служить без надежды на вознаграждение». Высшее наслаждение творчеством и познанием ожидает человека в Раю, где ограничения земного существования будут сняты. Гуманистический эпикуреизм Лоренцо Баллы сыграл большую роль в становлении в сер. XV в. в Италии концепции homo universale — «человека универсального», естественно и всесторонне развивающейся личности, совершенной по своим задаткам. Пример такой личности являет собой Леонардо да Винчи (1452—1519) — гениальный художник, скульптор, инженер, глубоко осмыслявший собственное искусство и искусство всей своей эпохи. Ренессансный неоплатонизм К середине XV в. эмансипация мысли, произведенная гуманистами, стала приносить новые плоды. Неоплатонические идеи, принесенные в Италию из Византии Георгием Гемистом Плифоном (ок. 1355— 1452), упали на благоприятную почву. Неоплатонизм сохранил и развил главные завоевания гуманистов, представления о человеческой свободе, достоинстве и благородстве. Но вместе с тем стала очевидной ограниченность прежнего «филологического» гуманизма. Философский кругозор гуманистов, очарованных блеском античной латыни Цицерона и Горация, был достаточно узок, главными философскими авторитетами для них были Цицерон и римские стоики. Последующие мыслители Возрождения с юмором относились к «филологической одержимости» ранних гуманистов. Впрочем, собирание, перевод и критика античных текстов продолжались, но их осмысление велось уже на качественно ином философском уровне. Николай Кузанский Николай Кребс, известный впоследствии как Николай из Кузы, родился в 1401 году в Южной Германии, близ г. Трира. В раннем возрасте сбежал из дома, нашел прибежище в семье графа Теодорика фон Мандершайда, который долгое время оказывал ему покровительство. Получил образование вначале в школе Братьев общей жизни в Девентере (Голландия), где было сильно влияние мистических традиций, затем в университетах Гейдельберга и Падуи, где приобщился к гуманистическому движению. Приняв сан и поступив на службу в папскую канцелярию, быстро продвинулся, в 1448 г. стал кардиналом при папе Николае V, а папа Пий II (в миру — Пикколомини, друг Кузанца), сделал его своим главным советником и фактически вторым лицом в католической иерархии. Свое влияние Кузанец использовал для гуманизации Римской церкви, ее переустройства на принципах любви, свободы и разума, готовил теоретическую почву для воссоединения христианской церкви. Он давал философскую интерпретацию догматов христианского вероучения, соединяя учения Отцов Церкви, прежде всего отрицательное богословие Дионисия Ареопагита, и наследие античных философов, прежде всего пифагорейский числовой символизм. Основные произведения Кузанца — «Об ученом незнании» и «О предположениях». В остальных работах он развивал и разъяснял принципы, изложенные здесь. Николай Кузанский умер в 1464 г. Методология Кузанца. «Ученое незнание». Окончательная Истина, согласно Кузанцу, недостижима, поскольку любое знание есть соразмерение неизвестного с уже известным, но «между бесконечным и конечным нет пропорции». Это ключевое положение не только гносеологии, но и онтологии Кузанца. Оно означает, что, сколько бы ни умножалось познание условного, оно никогда не даст знания безусловной реальности; сколько бы ни расширялось конечное бытие, оно никогда не станет абсолютным. Следовательно, «Бесконечное, ускользая от всякой соразмерности, остается неизвестным» (4: 1, 50). Но Безусловное лежит не только за пределами условного, но и в его основании. Поэтому углубление в познании условного также не может иметь конца: «Последняя точность сочетаний в телесных вещах и однозначное приведение неизвестного к известному» также невозможны (4: 1, 51). Следовательно, «...все, чего мы желаем познать, есть наше незнание», а всякое наше знание есть не более чем «предположение». Поэтому познание бесконечно: «Разум так же близок к истине, как многоугольник к кругу»: увеличение знаний можно сравнить с увеличением числа сторон многоугольника, но, сколько бы мы ни увеличивали это число, многоугольник никогда не совпадет с кругом: разум, мыслящий дискретно, не может постичь Бесконечность, в которой все противоположности не только совпадают, но растворяются в Единстве. В этой постановке вопроса можно видеть предвосхищение вопроса Локка, Юма и Канта о границах человеческого познания. Но «скептицизм» Кузанца сильно смягчается признанием им веры (почти приравниваемой к интеллектуальной интуиции) как высшего источника познания. Человек, будучи существом условным и ограниченным, не мог бы даже захотеть или помыслить искать Безусловную Истину, если бы в нем самом не было Света этой Истины, если бы сам человек (как разум) не был бы этим Светом. Именно это дает человеку возможность ученого незнания: не просто «я знаю, что ничего не знаю», или «я знаю, до каких пределов я знаю», но «Свет Истины непостижимо светит во тьме моего незнания». «Диалектика» Кузанца. Окончательная Истина запредельна для разума, а наивысшая форма доступного ему знания есть постижение совпадения противоположностей. Бог выше совпадения противоположностей, Он — их условие и вмещающее их единство, но совпадение их — это «ворота», ведущие к сверхразумному созерцанию Бога. Противоположности лежат в самом основании бытия вещей: «Все вещи состоят из противоположностей в различных степенях, имеют то больше от этого, то меньше от другого, выявляя свою природу из двух контрастов путем преобладания одного над другим» (5: 171). Поэтому также высший метод познания заключается в выявлении противоположностей и попытке сведения их воедино: «...Я очень часто занят совпадением противоположностей и постоянно пытаюсь прийти в итоге к интеллектуальному видению, превосходящему силу рассудка» (4: 2, 197). «Умение постоянно сосредоточиваться на сопряжении противоположного — трудное искусство», — признается философ (4: 2, 111). «Диалектическая теология» Кузанца. Бог как Абсолютный Максимум и Абсолютный Минимум. Применяя для постижения Бога пифагорейскую числовую символику, Кузанец определяет Бога как «Абсолютный Максимум». «Максимумом я называю то, больше чего ничего не может быть. Но такое преизобилие свойственно Единому». Наше понимание, по Кузанцу, неспособно «на путях рассудка сочетать противоположности в их источнике». Но, поднявшись над всякой дискурсией рассудка, мы видим, что «Абсолютный Максимум есть бесконечность, которой ничто не противостоит...». Если Абсолютный Максимум включает в себя все, то «с ним совпадает и Минимум», «...освободи Максимум и Минимум от количества, и ты увидишь, чтоони совпадают». Единство не может существовать вне множества, потому что, во-первых, множество в таком случае было бы невозможно, во-вторых, единство не было бы Абсолютным Единством, так как оно не включало бы в себя все. «...Универсальное единство идущего от Него[17] бытия — тоже максимум, исходящий от Абсолюта и потому существующий в конкретной определенности как Вселенная; соответственно, его единство определилось во множестве, вне которого не может существовать». «...Он не мог бы, однако, существовать вне множественности, в которой пребывает, потому что не существует без ограничения и не может от него освободиться». Абсолютный Максимум оказывается в некотором смысле зависимым от множества, а значит, от Иного, начала множественности, то есть от Первой Материи. Бог и Материя оказываются по сути двумя вечными, несводимыми друг к другу Началами, которые не могут ни существовать, ни мыслиться друг без друга. Бог как Единое. Абсолютный Максимум есть Единое, «иначе среди вещей не оказалось бы ни различия, ни порядка, ни множественности... да и вообще не было бы числа». «Такая единица не число». Почему Единица (так же как пифагорейская «Монада») — «не число», если в арифметике 1 — такое же число, как 0, 5 или 2? Но, по сути, все числа, в том числе дроби, лишь показывают, в какой пропорции нечто находится к единице, принятой за меру счета. Так, в физике мы условно, по соглашению, принимаем за меру 1 м, 1 кг и так далее. Эталон метра, хранящийся в Париже, не является «мерой длины» (какой-либо конкретной вещи), это мера для измерения длин. Причем, если метр — условная мера, то Единица в мире чисел есть безусловная мера всего условного. Потому Единица не является «числом чего-либо», но условием возможности любого исчисления и вычисления. И потому Кузанец, как и Пифагор, не считал Единицу «числом», но началом, в котором «свернуты» все числа и из которого они «развертываются». Триединство Бога. Все имена, согласно Кузанцу, есть «результат движения рассудка», который гораздо ниже разума и не может возвыситься до совмещения противоположностей. Кузанец довольно смело утверждает, что даже «наименование Триединства и Его трех Лиц («Богом Отцом», «Богом Сыном» и «Святым Духом») дано по свойству созданий», т. е., является антропоморфизацией (очеловечиванием) Бога. Догмат о «неслиянности и нераздельности» трех Ликов Троицы Кузанец признает, однако именует эти Лики «Единство, Равенство и Связь» и дает этому философское обоснование. Бог, как уже показано выше, есть Единое. Множество возникает, когда Единое (единица) повторяется n раз. Но сама возможность повторения должна быть заложена в Едином. Кузанец выражает это так: прежде чем Единство может быть повторено два, три и более раз, оно должно быть повторено один раз[18]. Это повторение означает не что иное, как то, что Единство равно самому себе. Так устанавливается (в теологических терминах — «рождается») вторая ипостась Бога — Равенство. Далее, Равенство не есть что-либо иное, чем Единство, они совпадают, согласуются, связываются воедино. Связь Единства и Равенства «исходит» от них обоих (как Святой Дух «исходит» от Отца и Сына в католическом символе веры) и есть третий Лик Троицы. Используя одни только местоимения, всю Троицу можно определить, согласно Кузанцу, как «Это, То и То же». («То» указывает иным образом на уже известное «Это», а «То же»—на их тождественность). Это философское обоснование Троицы восходит к Августину (у него были наименования Единство, Равенство, Согласие), сам же Кузанец возводит свое доказательство к Пифагору (чему у нас нет точного подтверждения). Бог как Неиное. Следуя отрицательному богословию Дионисия Ареопагита, Кузанец определяет Бога как «Неиное»: «Ни субстанция, ни сущее, ни единое, ни что-либо иное»; «ни не-сущее, ни ничто». «Неиное» — аналог платоновского понятия «Тождественное» и служит для обозначения Единства, превышающего и Бытие, и Небытие. Неиное выражает собой сам принцип совпадения противоположностей. В отношении к Неиному Иное — принцип множественности и изменения (это же понятие было у Платона). Умопостигаемый свет Неиного является принципом и познания, и бытия всего Иного, подобно тому как звук есть условие и познания, и бытия слышимого, а свет — и познания, и бытия видимого. Звук, действительно, не существует вне слышания как таковой (колебание воздуха — еще не звук, пока оно никем не слышится). Но и свет «в себе», «чистый свет», ничем не преломленный, невидим, как утверждает Кузанец, для человеческого взора. Мы видим, строго говоря, только цвет, т. е., только тот свет, который был каким-либо образом преломлен. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть ночью на звездное небо и Луну. Лучи солнечного света, освещающие Луну, заполняют почти все пространство ночного неба (за исключением конуса земной тени), но они невидимы, потому что нет «иного», в чем они могли бы преломиться достаточно, чтобы стать видимыми для нашего глаза. Аналогичным образом Свет Неиного постижим лишь только в преломлении и отражении в Ином и на поверхности Иного. Если к этому добавить, что, даже будучи преломленным, Свет остается тем же Светом, принимая в себя лишь «привходящие» свойства, не меняющие его природы, то станет понятно, как, с точки зрения Кузанца, Бог как Неиное может лежать в основе всего сущего, быть во всем сущем, быть всем сущим (имманентным ему) и в то же время оставаться запредельным и непостижимым. И в этом понимании Бога его единство и троичность «нераздельны и неслиянны»; это следует из его определения: «Неиное есть не (что) иное, как Неиное». В этой искусственной формуле Бог-Неиное един трижды: 1) «в себе»; 2) в «своем ином» — в бытии природы (которое есть становление); 3) в возврате Иного в Неиному. Бог и мир: «Пантеизм» Кузанца. Развивая свой диалектический пантеизм, Кузанец ссылается, с одной стороны, на Ареопагита, с другой — на герметическую традицию. «Правильно утверждают богословы, что Бог есть все во всем и в то же время ничто из всего». «...Единому, как говорил о нем Гермес-Меркурий, подобает именоваться именами всех вещей и ни одним из всех имен» (4: 2, 103). Образ, который Кузанец считает очень удачно описывающим отношение Бога и мира —образ царя или полководца. Эту аллегорию он находит у Прокла: «Что в государстве пребывает раздельным, то изначально и цельно есть в царе он сам и его жизнь». В абсолютных монархиях все, что имеет значение «государственного» — т. е., обладает бытием как «государственное», получает это значение-бытие через свое отношение к царю; «государственное» равно «государево». В воле царя и в самой его личности заключены (в свернутом виде, как любит говорить Кузанец) указы, печати, меры, армия, судьи, налоги и так далее. Даже законы, высеченные на скрижалях, без царя остались бы мертвой буквой — он есть их живое бытие. В том же смысле еще Аристотельговорил о полководце, что он, будучи целью войска, дает войску «все то, что делает его войском», — единство, организацию, цель, боевой дух. Таково и отношение Бога к миру. Если государь — «энтелехия» (осуществление) государства, если в нем все государство только и может считаться «государством» (так как государство — это нечто единое, а царь и есть тот, кто делает государство единым), то можно сказать, что «государство — это государь». Аналогичным образом, и о мире только в этом смысле можно сказать, что «мир есть Бог», то есть, мир получает значение «сущего» только в отношении к Богу. Правда, исходя из этой аналогии, можно было бы сказать, что и царь без царства — не царь, как и полководец — не полководец без войска, т. е., и Бог не был бы Богом вне отношения к развернутому из него миру. Для Кузанца, конечно, невозможно, чтобы мир хоть в каком-то смысле обусловливал Бога. Отношение Бога к миру не подчинено ни природной, ни внутренней необходимости. Даже Платон и Аристотель, по убеждению Кузанца, не разглядели, что «всякое творение есть намерение воли Всемогущего...» «Оба явно считали, что зиждитель-ум производит все через природную необходимость, и отсюда идет вся их ошибка» (4: 2, 114). Присутствие Абсолюта в мире. Присутствие Абсолюта в мире, или погруженность мира в Бога, — одно из «общих мест» метафизики. Августин писал: «Я не был бы, я совершенно не мог бы быть, если бы Ты не пребывал во мне». То же утверждает Фома Аквинский: «...необходимо, чтобы Бог пребывал во всех вещах, и притом внутреннейшим образом». Изменение, вносимое Кузанцем в это учение, вытекает из свойственного Возрождению пробуждения индивидуальности: Бог должен быть не только бесконечно далеким Первоначалом, конечной Целью и бесконечно глубоким основанием каждой вещи. Если Бог в отношении индивидуальности — только ее бесконечно глубокое основание, то индивидуальность не имеет самостоятельного онтологического значения, растворяясь в божественном «океане сущности», а реально «с точки зрения вечности» существует только всеобщее. Кузанец впервые в истории европейской философии ставит задачу раскрытия Абсолюта в индивидуальности как таковой. Этого можно достичь только при помощи его метода «совмещения противоположностей». Следуя неукоснительно своему «диалектическому» методу, Кузанец приходит к парадоксальному выводу: конечное бесконечно в своей конечности. «...Конечная линия не делима на нелинии, благодаря чему в своем основании она неделима... Получается, таким образом, что основание конечной линии — бесконечная линия!» Линия конечна, поскольку она отличается от всякой нелинии, например, плоскости; но как линия она бесконечна, потому что ничто не может сделать ее ни больше линией, чем она есть, ни меньше, т. е., она как линия воплощает абсолютную актуальность, хотя и в ограниченном образе. Без этой диалектики конечного и бесконечного невозможно ни представить, ни понять даже возможность бытия Абсолюта в конечном, а значит, — и воплощения Бога в человеке. В тождестве самой себе, в бытии самой собой — истина каждой вещи, ее божественность, ее абсолютность. Проблема, согласно Кузанцу, в том, что ограниченные вещи никогда не могут быть абсолютно тождественны самим себе — из-за того, что они вечно стремятся к чему-то иному, чем они есть, и оттого пребывают в вечном потоке становления (на языке Кузанца это звучит: «вещи причастны Иному», то есть, материи). Если бы человек или любое существо могло бы вполне осознать, чем оно является на самомделе, и удовлетвориться этим, оно слилось бы с Абсолютом. Но в истории это было, с точки зрения Кузанца, только один раз — в таинстве Боговоплощения. «Христология» Кузанца (Учение о «конкретном максимуме»). Особое значение для Кузанца имеет учение о «конкретном максимуме» — философское обоснование таинства Боговоплощения. Как мы уже говорили, именно этот пункт церковного учения был особенно важен для мыслителей Возрождения, поскольку был основой для оправдания материального аспекта природы и человека. «Все ограниченные предметы, — пишет Кузанец, — находятся между максимумом и минимумом. Хотя для каждой данной вещи мыслима и большая, и меньшая степень ограничения, однако без ухода в актуальную бесконечность: бесконечное количество ступеней сущего невозможно...» Актуальная (осуществленная) бесконечность ступеней означала бы, что число ступеней достигло бесконечности, что невозможно, так как «прибавлением и превышением не достичь бесконечности». Следовательно, любой реальный ряд ступеней сущего конечен. Ни одна ограниченная вещь не может ни возвыситься до Абсолютного Максимума, ни снизойти до Абсолютного Минимума, так же как Он не может ни снизойти, ни возвыситься до нее. Отсюда следует далее, что «ни одно существо не может достичь максимального совершенства в своем роде, не перейдя в другой род». Ведь максимальное совершенство любой вещи, по Кузанцу, — это Бог. «Если бы все-таки существовал актуально максимум конкретного вида, для данной конкретности он оказался бы актуально всем тем, что только может быть в потенции и этого вида, и его общего рода» (4: 1, 147). Так, максимальная линия не только исчерпывает все возможные линии, но совпадает со всеми геометрическими фигурами и точкой. Такой конкретный максимум был бы: 1) «полнотой этого вида и всего рода как прообраз, жизнь, форма, основание и совершенная полнота истины всего того, что только возможно для данного вида»; 2) был бы «в несоизмеримо высоком равенстве с любым индивидом этого вида» и «свертывал в своей полноте все их частные совершенства»; 3) будет «и Богом, и творением», основой же своего существования будет иметь только Абсолютный Максимум; 4) будет непостижим (для разума), так как никак нельзя мыслить а) его соединения с конечным, б) его возникновения во времени; 5) не будет ни Богом (только), ни творением (только), ни их соединением (ибо их соединение немыслимо). Итак, гипотетический конкретный максимум был бы, по сути, «теофанией», непосредственным явлением Бога в мире. Такое явление, по Кузанцу, возможно только в человеческой природе. Это «срединная природа», «высшая ступень низших и низшая ступень высших порядков», соединяющая низшее и высшее. Природа человека «заключает в себе умственную и чувственную природу и стягивает в себе всю Вселенную: она есть микрокосм, малый мир, как называли ее с полным основанием древние». Христос — не только воплотившийся Спаситель. Он был от века, как один из Ликов Троицы, совечный Отцу, именно Он был тем «каналом», через который происходило «излияние» (эманация) всего сотворенного из Первопричины. «...Через Него... как через начало своей эманации и конечную цель своего возвращения (reductionis), они (сотворенные вещи) и исходили бы из абсолютного Максимума в конкретное бытие, и восходили бы к Абсолюту» (4: 1, 151). Поскольку «эманация» — понятие вне времени и пространства, то Христос не только «лестница» нисхождения сущего в начале и восхождения в конце, но и сейчас, и вечно Он есть Живая Связь всего сущего с Абсолютом. Если бы не Христос и устанавливаемая Им связь, «не было бы ни Творца, ни творения: ведь разве (можно было бы сказать), что конкретность творения идет от абсолютного божественного бытия, если бы эта конкретность была несоединима с Богом? Именно благодаря конкретному Максимуму (Христу) все вещи только и могли бы не просто существовать от Божественного Абсолюта, но и происходить от Него как конкретные благодаря высшему соединению с Ним в этой их конкретности (ограниченности)» (4: 1, 152). Хотя учение о Христе изложено так, чтобы не противоречить церковной догматике, в нем в «свернутом виде» заключены выводы, скорее близкие к герметической традиции (и в то же время отражающие учение Христа, как его открывали заново в своем сердце мыслители Возрождения). «Конкретный Максимум» (Христос) един, и не может быть двух, трех и так далее, но не потому, что лишь один рожденный человек (Иисус) стал Богом, но потому, что все индивиды, достигшие определенной ступени в любви и познании, сливаются воедино с Христом (восходя в степенях этого единства, входя сначала в Тело Христово — Церковь, затем в Душу и Разум). «Как всякий любящий пребывает в любви, так все любящие Истину — в Христе» (4:1,171). Христос — не столько личность, сколько принцип, поэтому «второе пришествие» Христа может осуществиться не в одном теле, но в совокупности душ, принявших Ero в свое сердце (у которых, как говорится в Апокалипсисе, на челе будет Имя Его). Природа Христа уже сейчас составляет основу природы каждого человека; вторая есть развертывание первой, и восхождение к Нему будет не «эволюцией» (развертыванием), а «инволюцией» (свертыванием) или «редукцией» (сведением к основе). Чем более человек старается отделиться и отличить себя от других людей, тем дальше он от Христа (по сути, это выпад против папства), так как Христос — воплощенное живое равенство всех людей («тождество»). Свертывание и развертывание. Отношение Бога и мира Кузанец описывает терминами «развертывание» (explicatio) и «свертывание» (complicatio), иногда — «развитие» (evolutio). Эти понятия ближе к неоплатоновской «эманации», чем христианскому «творению». Понятие «развертывание» Кузанец иллюстрирует на примерах: из точки развертывается линия, из мига — время, из покоя — движение. Вся Вселенная есть развертывание Бога. «В едином Боге свернуто все, поскольку все в Нем; и Он развертывает все, поскольку Он во всем». «Все, что создано и будет создано, развертывается из того, в чем оно существует в свернутом виде». Развертывание и свертывание (как «эманация» у неоплатоников) — вневременные понятия, им не соответствуют никакие процессы во времени. Это можно проиллюстрировать рис.: центр и окружность — Абсолютный
Минимум и Абсолютный Максимум, спираль — развернутая из них сущность. В зависимости от того, в каком направлении вращать рисунок, спираль будет казаться «исходящей» из центра или «входящей» в него, но это только иллюзия. «Путь вверх и путь вниз один и тот же» (Гераклит). Оправдание материи. Подобно Платону, Кузанец предпочитает термин «Иное» термину «материя» (hyle). Термин «Иное» лучше передает чисто метафизический, далекий от всего чувственного смысл, чем «материя» или «вещество». С одной стороны, Иному всегда чего-нибудь недостает, Иное есть слабость и делает слабым все, к чему примешивается, Неиное же есть абсолютная Мощь. Но, с другой стороны, Иное есть такое же необходимое условие познания, мышления и бытия, как Неиное. Кузанец не случайно заменил платоновское название «Тождественное» на «Неиное»: хотя онтологически Неиное выше Иного и содержит его в себе, само название «Неиное», произведенное от слова «иное» присоединением приставки «не», показывает, что Неиное немыслимо без Иного, так что они представляют собою словно два полюса всего сущего (так же у Платона — Тождественное и Иное). «Чтобы стать чувственной субстанцией, она (Абсолютная субстанция) нуждается в способной к ее восприятию материи, без которой не может осуществиться как субстанция» (4: 2, 209). Материальный мир («причастный Иному»), конечно, несовершенен, но это несовершенство трактуется Кузанцем принципиально иначе, чем, скажем, у Фомы Аквинского: это лишь относительное несовершенство, которое дает сущему его индивидуальность. Восхождение к Абсолютному Совершенству есть приближение к растворению в Едином Боге, но индивидуальность и сама по себе имеет абсолютную ценность, заключающуюся в том, что: 1) она раскрывает («развертывает») одну из бесчисленных потенций Бога; 2) в тождестве ограниченной вещи самой себе безусловное входит в условное, Абсолютное в относительное, Бог в мир. Числовой символизм. Кузанец очень широко использует аргументы, аналогии и символы, основанные на числах и числовых соотношениях, а также на геометрических примерах. Очень высоко почитая Пифагора, Кузанец возводит к нему основные положения своего учения, даже если связь с реальными взглядами Пифагора нельзя установить с достоверностью. Предпочтение, отдаваемое числу, вытекает из учения об ученом незнании и о соотношении познавательных способностей: во-первых, «...если приступать к Божественному нам дано только через символы, то всего удобнее пользоваться математическими знаками из-за их непреходящей достоверности». Во-вторых, только математика, как учил еще Пифагор, может приучить человека пользоваться своим чистым разумом, который должен быть свободен от воображения и чувств. Различные аспекты своей философии Кузанец всегда охотно представляет в виде математических символов. Так, одна из ключевых числовых моделей в его метафизике — система «четырех единств» (см. рис.). «Ум созерцает собственную универсальную бытийность в этих четырех различающихся единствах». Первое Единство, (1) — «высший и простейший Разум», который познающий разум человека называет «Богом». (Из этого можно сделать вывод, что «Бог» — только имя для обозначения определенного аспекта самопозна-
ющего Разума!) (2) — «Единство корня», в числовом выражении — 3 или 10, в метафизическом — Разум, Интеллект. (3) — «Единство квадрата», 9 или 100 — душа, развертывание и конкретизация Разума. И (4) — «единство куба», 27 или 1000 — тело и телесный мир. Название «четыре единства» подчеркивает то обстоятельство, что каждое из единств охватывает собою весь универсум, то есть, как говорит Кузанец, «все в Боге есть Бог, в разуме — разум, в душе — душа, в теле — тело». Четырем единствам соответствуют четыре познавательные способности: (1) — вера, или «ученое незнание»; (2) — разум; (3) — рассудок; (4) — чувства и воображение. Вера, как видно из схемы, охватывает собою всю сферу познания, включая в себя остальные познавательные способности: это значит, что без веры человеку будет недоступна полнота истины не только разума и рассудка, но даже чувственного познания. Каждая низшая познавательная способность соприкасается с высшей только в одной точке: это символизирует, что каждая познавательная способность есть единство, свертывающее в себе все разнообразие и различия, данные в нижестоящей познавательной способности. Имеется в виду, что одному понятию (идее) разума можно сопоставить бесконечное количество понятий рассудка, а одному понятию рассудка — бесконечное множество чувственных данных. Поскольку же чувства — это низшее (четвертое) единство, которое не свертывает в себе никакого различия более низкого уровня, следовательно, чувства не дают нам знания о различиях вещей. Различия чувственных вещей, то есть, комплексов чувственных качеств, устанавливаются только рассудком. Практически в том же смысле неокантианец Коген критиковал чувственное познание, утверждая, что оно неспособно дать нам даже знание о единстве предмета — так как все чувственные данные относительны, текучи и обманчивы. Учение Кузанца о том, что Разум (Логос) творит мир посредством самоопределения, — также можно отнести к трансцендентальной точке зрения. Вера выше разума и предшествует ему, но это не «доверие» к авторитету, даже Священного Писания, а свет Божественного Разума и Любви, который, озаряя душу, делает ее способной к видению Истины. «Если не поверишь, не поймешь»[19]. Человеческий разум — «свет от Света» Божественного Разума, и поэтому ему доступно в «ученом незнании» прикосновение к Абсолюту. Человек не должен ничего «принимать на веру». Он должен испытывать всякое предположение огнем своей веры, и принимать только те из них, которые выдержат такое «испытание огнем». Другой любимый и часто используемый Кузанцем геометрический образ — так называемая «парадигма», представляющая собой две пирамиды, света и тени, проникающие друг в друга и символизирующие два Начала, Единого и Иного. Единство — некий «формирующий свет», инаковость — «тень», производящая материальную плотность. Основание пирамиды Света — Единое, Абс. Максимум. Основание пирамиды Тени — Иное, полюс Материи. Оба этих Начала присутствуют в каждом числе, пронизывают собою весь мир и каждую форму. Кузанец особенно подчеркивал, что и в основании
пирамиды Света есть точка Тени, и в основании пирамиды Тени есть точка Света. Тем самым полюса Начал уподобляются полюсам магнита, которые не могут существовать, и даже мыслиться, друг без друга. (1), (2) и (3) — соотв., высший, средний и низший миры, миры разума, души и тела. Единое охватывает собою все мироздание, проникая вплоть до полюса тьмы. Космология. Конечность и бесконечность мира зависят, по Кузанцу, от точки зрения. Мир существует как бесконечный, если его рассматривать как свернутый в точке Максимума и Минимума, то есть, в Боге. Сам по себе, как развертывание Бога, мир не может быть актуально бесконечным, так как тогда он совпадал бы с Богом. Но «все же нельзя считать его конечным, потому что он не имеет границ, между которыми он заключен» — поэтому Кузанец называет его беспредельным. Беспредельность — это принципиальная незавершенность мира как процесса, а также любого процесса измерения, познания мира. Сколько бы мы ни искали границ мира, мы их не найдем, так как у мира нет внешних границ, он ограничен лишь самим собой, тем, что он есть именно то, что есть, а не то, чем мог бы быть. (Только Бог есть «все то, чем Он мог бы быть» — отсюда еще одно наименование Бога у Кузанца — Possest, возможность-бытие). «Вселенная есть сфера, центр которой — везде, а окружность — нигде». Следовательно, Земля — не более центр мира, чем любая другая точка Вселенной, а «окружность его не является сферой неподвижных звезд». «Нельзя найти для звезд середины, равно отстоящей от полюсов». Только Бог «является и центром Земли, и всех сфер, и всего того, что есть в мире». Кузанец утверждал, что не только Земля, но и Солнце не являются центром космоса. Во Вселенной нет ни одной неподвижной точки, так как движение относительно. Также он предполагал существование множества населенных миров, подобных нашему, и еще большее число отличных от нашего, так что ни одна из «звездных областей» не является ненаселенной. Как после него Бруно и наш К. Э. Циолковский, Кузанец верил, что живые существа могут состоять из материи как более плотной, чем наша, так и более тонкой и огненной, поэтому жизнь возможна как в недрах планет, так и на пылающих звездах. Но это многообразие не умаляет достоинства Земли и живущего на ней человека: «Человек не желает другой природы, но старается быть совершенным в своей, ему присущей» (5: 230). Как видим, по сути, Кузанец предвосхитил открытие Коперника и даже пошел дальше. Этот философ во многих вопросах далеко опередил свое время, однако его идеи, как это бывает, не были оценены во всей полноте их значимости. Развитие неоплатонической мысли Возрождения шло независимо от него. Его работы не издавались 300 лет, с 1565 по 1862 г., и лишь неокантианец Эрнст Кассирер удостоил их непредвзятого анализа и поставил Кузанца во главу всей философии Возрождения (6). Флорентийская Платоновская академия В 1459 г. Козимо Медичи, глава Флорентийской республики, санкционировал учреждение здесь Платоновской академии. С этого момента развитие неоплатонизма в Италии вступает в новую фазу. Нам трудно оценить по достоинству все значение собственно теоретической работы, которая велась в Академии с целью создания единого философско-религиозного учения на основесинтеза учений Платона, Аристотеля, Гермеса Трисмегиста и неоплатоников. Эта работа не привела к созданию новой самобытной философской системы, а мистические и символические основоположения, воспринятые из герметической, алхимической и каббалистической традиции, в Новое время вышли из употребления, поэтому очень многие исследователи считали философию флорентийских неоплатоников лишь эклектичным соединением разнородных учений. Однако, оценивая работу Академии, нельзя не учитывать целей, которые ставила перед собой Академия, и специфики ее понимания «научности». Целью Академии было не создание еще одного философского учения в длинном ряду предшествующих, но, наоборот, попытка синтеза и построения на основе философских систем прошлого некоего «единого учения», которое могло бы иметь силу «научной истины». «Научность» также понималась иначе, чем в Новое время. Так, глава Академии Марсилио Фичино (1433—1499) в своем обширном исследовании «Платоновская теология о бессмертии душ» не ставил задачей реконструировать мысль Платона в ее исторической конкретности, в ее «плоти и крови». Его интересовал только дух учения Платона, но зато здесь он стремился к предельной научной достоверности, которая может быть достигнута только одним способом — созерцанием (интуитивным переживанием). Поскольку же Фичино не разделял созерцание интеллектуальное и мистическое, то научная достоверность и мистический опыт сливались для него воедино. Однако ни единое учение, ни «духовная наука» флорентийцев не были востребованы в Новое время. Влияние Академии на дальнейший ход развития философии выразилось прежде всего в создании здесь особой атмосферы философской и литературной жизни. В отличие от тогдашних университетов, это не была корпорация со строго соблюдаемыми официальными обязанностями. «Платон в своей Академии впервые в Европе явил пример полностью свободной организации философской и научной мысли. Фичино и Пико делла Мирандола впервые возродили ее» (6: 211). Джованни Пико делла Мирандола (1463 — 1494), друг Фичино и второй человек в Академии, несмотря на очень краткую жизнь, успел многое сделать для философии. Друзья именовали его Princeps Concordiae — Глава Согласия, и это прекрасно характеризует его как философа. Его целью был «философский мир» (pax philosophica) — всеобщее согласие мнений в едином синтезе. Но, в соответствии с поговоркой «хочешь мира — готовься к войне», Пико пришлось вести постоянную полемику с противниками такого «союза», прежде всего с деятелями Церкви. Главные работы Пико — «900 тезисов», которые он в свои 23 года собирался отстаивать в споре «со всем миром», «О бытии и Едином» и «Heptaplus» (от heptapylos, «семивратный» — книга, посвященная семеричности и другим нумерологическим ключам). Для Пико философия — это Philosophia Perennis, вечная философия, «откровение вечной Истины, неизменяемой в своих основных чертах». Дух Возрождения проявляется в его «900 тезисах» как лишенное предубеждений стремление дать жизнь в своей мысли всем достижениям мудрости прошлого — и античной, и средневековой. Пико отличался от Фичино тем, что он «не присягал на верность платонизму», мыслил еще шире и хотел охватить своим синтезом весь универсум мысли. Наиболее прочной опорой для «всеобщего согласия» Пико считал Каббалу, иудейское мистическое учение, дающее, по его мнению, ключи к пониманию символизма обеих книг — книги Природы и книги Откровения. «Этоесть первая и истинная Каббала, о которой я первый из латинян сделал ясное упоминание. Именно ее я использую в своих выводах». Только следуя Каббале можно, по мнению Пико, понять истинную божественность Христа, поэтому Каббала не только не противоречит христианству, но составляет его необходимую часть. «Никакое знание не удостоверяет нас в божественности Христа более, нежели Магия и Каббала». Подобно тому как Кузанец каждую точку пространства сделал центром мира, Пико сделал каждый момент истории ее потенциальным центром. Но, чтобы эта потенция реализовалась, в это время все мысли и устремления прошлого должны быть воспроизведены («оживлены») творческим усилием мыслителя и художника — тогда эти мысли смогут быть также переданы и будущему. Отсюда тезис о фундаментальной свободе человека-творца: ему ничего не дано, он все должен добыть сам (с этим связана принципиальная борьба Пико против астрологии и ее веры в судьбу — вспомним книгу Петрарки на ту же тему). Главное измерение свободы —«священное притязание» Пико и предмет его восхищения — свобода человека самотрансформироваться. «Наполняет душу некое священное стремление, такое, что мы не удовлетворяемся средним и стремимся к высшему, всеми силами пытаясь следовать за ним, когда можем и хотим». Эта свобода абсолютно ничем не ограничена, вплоть до того, что человек может «стать единым духом с Богом». Кассирер видит здесь у Пико предвосхищение кантовского разделения «мира природы» и «мира свободы». Но Пико, действительно, не предлагает ничего нового, а лишь сводит воедино учение платонической традиции: «На земле нет ничего великого, кроме человека, в человеке нет ничего великого, кроме разума и души. Если ты возвысишься до этого, то превзойдешь небо, если склонишься к телу и воззришь на небо —увидишь себя мухой и меньше, чем мухой». «Чудеса души больше неба» — вот итог, к которому возводит Пико все истинное, что есть в философских учениях. Немецкий гуманизм и Реформация В конце XV — XVI вв. гуманистическое движение охватило главные европейские страны. Значительное развитие это течение мысли получило в Германии, где оно соединилось с широким религиозным движением. Наиболее авторитетными немецкими гуманистами старшего поколения были Эразм Роттердамский (1469—1536) и Иоганн Рейхлин (1455—1522), которых в немецких гуманистических кругах называли «двумя очами Германии». Эразм из Роттердама первым из великих немецких писателей поставил целью согласовать религиозные убеждения со здравым смыслом. Догматическая теология как таковая его интересовала мало, но тем большее значение он придавал внутренним религиозным убеждениям. Он считал, что для религиозного сознания достаточно тех оснований, которые нам дает внутренний опыт, а опора в догматике и метафизических спекуляциях совершенно излишня. Он ясно осознавал границы рассудка и постоянно напоминал о них читателю. Его знаменитая работа «Похвала глупости» направлена не только против окостеневших религиозных и социальных установлений, но также против притязаний разума на познание конечной истины, даже в отношении вещей повседневных, не говоря уже о потусторонних. «...Счастье зависит неот самих вещей, но от того мнения, которое мы о них составили». «...Ибо в жизни человеческой все так неясно и так сложно, что здесь ничего нельзя знать наверное, как справедливо утверждают мои академики (скептики), наименее притязательные среди философов. А если знание порой и возможно, то оно нередко отнимает радость жизни» (7: 58 — 59). Несмотря на свой скепсис, или же благодаря ему, Эразм ставит целью «суверенную рефлексию рассудка о содержании веры, посредством которой (рефлексии) оно разделяется как отношение Бога, Христа, человека, свободной воли и воздействий Бога как на чуждые друг другу независимые факторы» (8: 69). Подвергая Новый Завет филологической критике, подчас пристрастной, Эразм исходил из различия между непогрешимым Христом и апостолами, которые были простыми людьми и могли во многом ошибаться. Он считал Евангелие от Марка обширной выдержкой из Евангелия от Матфея, а также вообще отрицал принадлежность Апокалипсиса Иоанну, считая, что его обманным путем ввел в Новый Завет некий Керинф. Рационализация христианства Эразмом была, по сути, формой выражения его гуманизма. Как и итальянские гуманисты, он отрицал вечное наказание за грехи. При этом Эразм не отрицает догмат о загробном воздаянии, но приводит его в соответствие со здравым смыслом и нравственным чувством: не существует иного ада, кроме мук нечистой совести. В старом споре о соотношении свободы воли и предопределения, то затухавшем, то разгоравшемся с новой силой со времен ранних Отцов Церкви, Эразм отстаивал свободу воли (в работе «О свободной воле»). Мы не можем отрицать предопределения, когда рассуждаем теологически или метафизически, но если речь идет о нравственном сознании (и внутреннем опыте) и о моральной ответственности, то отрицать свободу воли невозможно. Против этого учения Эразма выступил Лютер в своей работе «О рабстве воли», и спор продолжался дальше, без надежды на всеобщее согласие. Немецкие гуманисты, в отличие от итальянских, развивали свою деятельность не при княжеских дворах, а главным образом при университетах. Среди немецких университетов наибольшую роль в гуманистическом движении сыграл Эрфуртский университет. Именно здесь в начале XVI в. сложился кружок молодых доцентов, среди которых выделялся Муциан Руф (в то же время, в 1501 —1505 гг., там обучался Мартин Лютер). Тогда Иоганн Пфефферкорн при поддержке католической церкви инициировал так называемое «дело о еврейских книгах» — попросту говоря, требование запретить и сжечь книги еврейских мистиков и вообще все древние книги, кроме Библии. Иоганн Рейхлин в своих «Письмах темных людей» высказался против сожжения книг. Церковь оказывала на него огромное давление, но на его защиту встали эрфуртцы во главе с Муцианом Руфом. Дело о еврейских книгах превратилось в «дело Рейхлина»: вдруг оказалось, что в Германии существует общественное мнение, и Церкви придется впредь считаться с ним. Реформация. 31 октября 1517 г. Мартин Лютер (1483 — 1546) обнародовал (по преданию — прибил на воротах церкви в Виттенберге) свои 95 тезисов, «из любви к истине и желания вывести ее на свет». Вначале «Тезисы» Лютера и последующие его работы объединили вокруг себя большую часть немецкого общества, весьма разнородного по уровню сознания и интересам, экономическим и политическим — Лютеру это удалось, поскольку он не уточнял, какие конкретные выводы должны следовать из его религиозной реформы для общественной жизни.После Лейпцигского диспута Лютера 26 июня 1519 г. против Иоганна Экка всю Германию захлестнула волна листовок и брошюр. «В них текст сочетался с гравюрами, что делало понятным смысл обращения даже для неграмотных... Обращение к массам, обсуждение актуальных религиозных и социально-политических проблем в доступной народу форме — это было принципиально новым явлением... Многовековая монополия католической Церкви в сфере идеологии была подорвана» (9: 253). В 1520— 1521 гг. Томас Мюнцер возглавил отделившееся от лютеранского движения народно-крестьянское движение за свержение не только церковных, но и светских эксплуататоров. Последователи Мюнцера понимали служение Богу как активное изгнание зла из мира, а новое царство мира и добра хотели создать кровью и железом. (Резкой критике примиренчества Лютера посвящена работа Мюнцера «О жизни нежной плоти в Виттенберге»). Когда в 1521 г. император Карл V обязал Лютера отречься, он ответил «на том стою и не могу иначе», и ему пришлось скрыться на год в замке Вартбург. В это время появились новые лидеры Реформации, и движение стало расслаиваться по социально-имущественному признаку: низшие слои бюргерства объединились вокруг Цвингли, а средние — вокруг Карлштадта. Карлштадт, ревностный противник теологии Лютера, уже в 1520 г. высказывал сомнения (в духе Эразма), является ли Моисей автором Пятикнижия, и дошли ли до нас Евангелия в неискаженном виде. В 1521 г. он, как позже Руссо и еще позже Толстой, призывал виттенбергских студентов бросить учебу и идти пахать землю. Вскоре он сам перестал носить одеяние священника и слал ходить в крестьянской одежде. Реформа Лютера оказала глубочайшее воздействие на всю последующую историю европейской культуры и философии, так что без нее нельзя понять их дальнейшее развитие. В наибольшей степени это влияние выражалось не в положительных утверждениях Лютера, но в раскрепощении сознания христианина от некоторых «уз». Эти «узы» следующие[20]: 1. Разделение людей на священников и мирян. «Они скрыли и замолчали то, что «в случае необходимости каждому дозволено крестить и отпускать грехи». Следовательно, «...необходимо, чтобы священник у христиан был только должностным лицом» (а не устроителем мистической связи с Богом в таинстве литургии). «...Сапожник, кузнец, крестьянин, каждый — имеют свое занятие и ремесло и вместе с тем все они в равной степени посвящены в священников и епископов». 2.Недопустимость толкования Писания мирянами. 3. Превосходство духовной власти над светской. «(Бог) учредил среди людей правление двух видов. Одно — духовное. В нем правит немеч, а Слово Божие, благодаря которому люди должны стать благочестивыми и оправданными и посредством такого оправдания обрести жизнь вечную. И таким оправданием руководит Бог посредством Слова, которое он завещал проповедникам. Вторым — является светское правление посредством меча. Благодаря светскому правлению не желающие стать благочестивыми и оправданными для вечной жизни — все же вынуждаются к тому, чтобы быть благочестивыми и оправданными перед миром» (9: 189). Верность обету — вот к чему должно сводиться, по Лютеру, «бремя Христово», причем обет должен даваться не человеку (Папе или другому), но Богу и самому себе, и заключаться обет может лишь в том, что способствует возвышению души в любви к Господу, а все прочее — это суеверие, губительное для души. Тем самым вся система католической иерархии подрывается в корне. 4.Лютер отвергает церковные богослужения (мессы) и таинства — кроме двух, Крещения и Причастия. Даже эти последние рассматривались лишь как способ укрепить веру и лишались мистического значения. 5.Необходимость внешних «добрых дел» (особенно пожертвований церкви); «дела без веры мертвы». «Вера есть божественное дело в нас, которое изменяет и возрождает нас, умерщвляя в нас ветхого Адама; она делает нас совершенно другими людьми по сердцу, уму, чувству... Она не спрашивает, следует ли совершать добрые дела, но прежде, чем спрашивать, она уже совершила их. А кто не предпринимает таких дел, тот — неверующий человек... Невозможно отделить дело от веры, подобно тому, как невозможно отделить горение от пламени». Истоки «этики долга». В проводимом Лютером различении между личностью и делом можно видеть истоки будущей кантовской «этики долга». Католики, для сравнения, утверждали, что личность сама по себе может обладать characteres indelebiles, неуничтожимыми свойствами, возвышающими (или унижающими) ее в сравнении с другими. По Лютеру, лишь дело дает человеку его статус, и все зависит от того, как он исполняет это дело — как служение Господу или в своих собственных целях. Для католиков «субъект» — это «невидимый организм» души, от свойств которой зависит его достоинство и права в обществе. Лютер сводит «субъекта» к субъекту нравственной ответственности, к тому, кто в человеке внимает голосу совести. А в этом отношении мы все равны перед Богом. Этика Лютера — этика долга, в духе которой спустя два столетия был воспитан Кант. 6.Лютер отвергает также исповедь и утверждает свободу совести человека: сердце его свободно перед Богом от всех законов и заповедей католической церкви. Натурфилософия XVI в. в Италии был ознаменован обострением трагического противоречия между идеалами гуманизма Возрождения и инертным сознанием масс, ожесточающимся при любом ухудшении материального благополучия. «Золотым веком» Возрождения была вторая половина XV в. и первые десятилетия XVI. Затем приходят упадок, католическая реакция на реформу Лютера — контрреформация, и наступление инквизиции. Уже с конца XV и в начале XVI в. итальянские государства ведут неудачные войны с Испанией и Германией. Открытие Америк и дальнего мореплавания изменило торговые пути — прежний путь через Италию на Восток уже не был так востребован, что привело к ухудшению материального положения итальянских городов. В таких условиях последние великие мыслители Возрождения часто встречались с непониманием и подвергались преследованиям, но, несмотря на это, с подлинным героизмом продолжали нести идеи гуманизма, теперь в форме натурфилософских учений. Оккультные науки: магия, астрология, алхимия. «Натурфилософия» есть, по выражению Бернардино Телезио (1509— 1588), философия природы, объясненной из ее «собственных начал». Его главный труд так и назывался: «О природе согласно ее собственным началам». Но и сам Телезио, и Кардано, и Кеплер, и практически все натурфилософы Возрождения понимали «причинную связь природы» и «ее собственные начала» гораздо шире, чем ученые Нового времени. На первое место по значимости в связи природных явлений они ставили влияние светил и скрытые свойства вещей. Понятие «скрытых свойств» не включает в себя ничего, что противоречило бы образцу научности: свойства явлений, скрытые от поверхностного наблюдения невооруженным глазом и неподготовленным, неметодическим разумом, — главный предмет изучения всякой науки. Единственное отличие науки Возрождения, продолжающей в этом традиции средневековой алхимии и древней астрологии, от науки Нового времени — наличие среди необходимых условий наблюдения таких свойств наблюдателя, как вера, воображение (то, что сегодня неопределенно понимается как «интуиция») и нравственная чистота. Только обладая этими качествами, ученый имел шанс достичь успеха в науке, которая в общем и целом совпадала с магией (точнее, естественной магией). Магия как бескорыстное и направленное исключительно ко благу познание природы, противопоставлялась «нигромантии», колдовству, гаданию и прочим ремеслам, далеким от истинной магии. Общее для Возрождения понимание естественной магии дает Кампанелла: «Естественная магия есть практическое искусство, использующее активные и пассивные силы вещей для достижения удивительных и необычных результатов, причины и способы осуществления которых неведомы толпе» (15: 164). Алхимия. Алхимия — часть прикладной магии, занимающаяся «трансмутацией» (превращением) «неблагородных» веществ в благородные. В Средние века главными целями алхимиков были «философский камень», позволяющий превращать неблагородные металлы в золото, и «эликсир жизни», продлевающий жизнь и возвращающий молодость. О многих великих алхимиках (например, Альберте Великом, учителе Фомы Аквинского) ходили слухи, что они обладали этими секретами. В эпоху Возрождения алхимия сама претерпела «трансмутацию» в соответствии с духом времени. Теперь традиционные алхимические практики были переосмыслены как оправдание природы и материи. Человек напрасно старается найти в природе источник своих пороков и бед. «Бог-Творец есть сама святость, потому все содеянное Им и в Его мире освящено им и через Него» (Парацельс) — следовательно, природа сама по себе, до осквернения человеком, чиста. Оправдание материи имеет другой, более глубокий смысл. Prima Materia (Первая Материя) алхимиков и Парацельса — «чистый предмет и единство форм», поэтому она может принять любую форму; она не сотворена Богом, совечна Ему. Изначально хаотичная, она оправдывается (искупается, освящается) Богом в процессе творения. Задачей алхимического искусства является содействие Творцу в этом оправдании материи. Каким образом это достигается? Все сущее, согласно учению алхимиков, пронизано эманацией Божественного Слова, которую они называли Archeus (Архей) и Spiritus Mundi (Мировая Душа). Эта эманация символизировалась золотом. Алхимики считали, что золото — это «кристаллизованные» лучи Солнца, накопленные на Земле в определенных местах, где есть для этого подходящие условия (соотв., серебро — лучи Луны). Аналогичным образом эманации, исходящие от «Духовного Солнца» («Свет» у неоплатоников и Кузанца), накапливаются в праведнойи мудрой душе. В работе с металлами цель алхимического искусства — выделение «квинтэссенции золота», которая обладает силой превращать в золото низшие металлы, т. е., придавать материи образ совершенства, тем самым оправдывая ее. В духовном аспекте то же действие означает выделение в душе человека «чистой субстанции» «духовного золота» — вечных и неразложимых зерен духовных накоплений. Действие этой квинтэссенции сравнивалось с воздействием Христа на человечество: это превращение природного человека («Ветхого Адама») в человека божественного, богочеловека («обожение» неоплатоников). Таким образом, совершенный алхимик приобщался к акту божественного творения, причем на стадии его завершения. Джордано Бруно Джордано Бруно (1548 — 1600) (Ноланец) родился в местечке Нола у подножия Везувия и потому говорил, что Вулкан (бог огня) ему родня, что подтверждается всей его жизнью, полной огненного подвига служения Истине. Оставив в 1576 г. доминиканский монастырь и духовное звание, он скитался по Европе, всюду сталкиваясь с преследованиями или глухим непониманием, — в Италии, Швейцарии, Франции, Англии, Германии. «И так как в мире идет постоянная война между светом и тьмой, между наукой и невежеством, то повсюду я подвергался ненависти, брани и оскорблениям, даже не без опасности для жизни» (10: 194). Потеряв надежду найти почву для своих идей на чужбине, Бруно возвращается на родину, где его ждало предательство, долгий процесс инквизиции и сожжение на костре. «Никто не соблюдает столь давно и широко распространенного закона любви, — писал Бруно, — который изречен... Богом, Отцом всего сущего, чтобы, созвучный природе, учил он всеобщему человеколюбию, согласно которому мы возлюбим даже и врагов, да... вознесемся к образу того, Кто возвысил свое солнце над добрыми и злыми и окропил влагой милостей праведных и грешных. Такова та религия, которую вопреки спорам и диспутам я соблюдаю как по велению души, так и по обычаю своего народа» (Из « 160 тезисов»). В юности, однако, по его собственному свидетельству, он был приверженцем материализма в духе Эпикура и Лукреция. По-видимому, это была реакция на схоластизированного Аристотеля, с изучения которого начиналось философское образование Бруно. Но в зрелые годы его взгляды стали более близки Платону, неоплатоникам и особенно Николаю Кузанскому, к «философии более созерцательной». Впрочем, Бруно все равно ценил материализм выше Аристотеля: материализм не следует отвергать и можно даже изучать, «если у вас есть досуг». Хотя и в терминологии, и в понятийном аппарате Бруно влияние Аристотеля так и останется доминирующим, взгляды Аристотеля ценятся им невысоко, так как они «больше опираются на воображение и далеки от природы». Основные произведения Бруно — диалоги «О Причине, Начале и Едином», «О бесконечности, Вселенной и мирах», «О героическом энтузиазме». Долг философа. Так же как и Сократ, Бруно считал философствование служением Богу. Как могу я быть безразличным, писал он, «...к божественному долгу, согласно которому мы не должны уподобляться слепым, но предназначены стать водителями ослепших и в этом теле человеческого сообщества сопричислены к тем, кому предписана должность и участь глаз... и на коговозложено в меру сил служить истине и свету». Как верил Бруно, божественный долг философа — быть «глазами человечества». Глаза — важнейшая часть тела: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно» (Мф., 6: 22, 23). Истинный философ возводит в мышлении человечества многое к Единому и тем проводит свет Единого в сознание человечества. Аналогичным образом истинная поэзия озаряет чувства людей, а истинная религия — дух. Более того, для Бруно истинная религия и истинная философия в конечном счете совпадают, так как Истина едина, а познание Истины есть наилучший способ почтить ее и приблизиться к ней. Поэтому философ подобен жрецу культа Света и своей мыслью устанавливает связь между Единым и миром людей. «Религия» Бруно. Как в древности Сократа и Протагора, Бруно обвиняли в посягательстве на религиозные ценности, в то время как он, напротив, стремился вернуть им связь с жизнью и опытом. Бога нужно искать, но не в Библии и не в экстазах мистиков, а «...в неодолимом и нерушимом законе природы, в благочестии души, хорошо усвоившей этот закон, в сиянии солнца, в красоте вещей, происходящих из лона нашей матери-природы, в ее истинном образе, выраженном физически в бесчисленных живых существах, которые сияют на безграничном своде единого неба (т. е. в звездах и планетах), живут, чувствуют и мыслят, и восхваляют высочайшее Единство». «Так обратим же лицо свое к восхитительному сиянию света, прислушаемся к голосу природы и будем в простоте духа и с чистым сердцем следовать мудрости, полагая ее превыше всех прочих вещей» (10: 194). На обвинительном процессе одно из основных обвинений инквизиции состояло в том, что он утверждал: «если бы я захотел, то мог бы достичь того, что в мире будет только одна религия» — и это, скорее всего, его действительные слова. Учение о познании. Диалектика Бруно исходит из диалектики Кузанца, с той разницей, что Бруно наполняет ее более реальным живым содержанием. Полярности, лежащие в основе всего сущего, для Бруно есть не просто умозрительные принципы, но живые действующие силы (притяжение и отталкивание, созидание и разрушение и т. д.). «Если мы хорошо обдумаем, то увидим, что уничтожение есть не что иное, как возникновение, и наоборот». Бруно проводит единство онтологии и гносеологии: поскольку разум не «принадлежит» человеку, но скорее действует через него, то и процесс познания человеком мира есть действие, совершающееся посредством человека, — действие гармонизации и интеграции мироздания. Природа посредством человеческого познания восходит от многого к Единому по тем же ступеням, по которым Единое нисходит к множеству. «Мы, подымаясь к совершенному познанию, ... сворачиваем множественность, как при нисхождении к произведению вещей разворачивается Единство» (11: 144). Иными словами, познание есть космический процесс, обратный процессу творения мира, дополняющий и завершающий его — возведение мира к совершенству, к единству, к Богу. Учение «о двух книгах». В вопросе соотношения опыта и откровения как двух источников знания Бруно придерживался концепции «двух книг», которую до него исповедовали Аверроэс, Кузанец, Кардано, Телезио. Это учение заключается в том, что одна и та же Единая Истина была открыта Богом человеку двумя способами: через «Книгу Природы» и «Книгу Откровения», такчто по любой из этих книг можно познать Причину и Начало мироздания, Бога. В Средние века это учение служило оправданию научного познания перед лицом теологии, признавая, что Книга Откровения более точна и совершенна, чем Книга Природы, так как дана непосредственно Богом, в то время как Книга Природы постигается через «мутное стекло» чувств. К XVI в. «Книга Природы» стала цениться выше. Точка зрения Бруно может быть выражена словами его современника Орфелиуса: «Говорят, есть два сокровища, одно — написанное слово (verbum scriptum) и другое — слово, ставшее фактом (verbum factum). В verbum scriptum Христос до сих пор запеленут в своей колыбели; но в verbum factum Слово воплощается в божественных творениях и там, образно говоря, мы можем дотронуться до него своими руками». Учение о Началах — центральный пункт зрелой философии Бруно. Он развивает учение о Началах мироздания, более свободное от ограничений церковной и аристотелевской догматики, чем у кардинала Николая Кузанского, хотя по сути и не противоречащее основам христианства. Бруно говорит о Боге как о Едином Начале Начал, в котором сходятся и совпадают все начала и причины. Но такое Начало было бы абсолютно запредельно нашему познанию. Поскольку же мы приходим к познанию Бога усилием своего разума и веры, мы постигаем в Нем, по Бруно, два Начала, Причину их разделения и смешения и результат их Смешения. Единое. Ставя Единое высшей целью познания и стремления разума, Бруно всячески подчеркивает отличие своего Единого от Единого Аристотеля и перипатетиков (даже неоплатоников). По его мнению, у них (особенно у перипатетиков) единое бытие, субстанция, лежащая в основе мира, — не более чем отвлеченное понятие, пустая логическая форма. Для Бруно Единое, хотя оно и доступно лишь для очей разума (и то едва-едва), все же представляет собою живую диалектическую реальность: как источник бытия и жизни, оно пульсирует в каждом атоме, как Разум — в биении мысли каждого мыслящего существа. Единое — само по себе и в виде двух Начал, формы и материи — достойно не только познания, но восхищения, почтения, благодарности, как Причина и Начало всего этого прекраснейшего универсума. Это — «истинная религия», религия любви, которую Бруно исповедовал, на взгляд инквизиции, слишком прямолинейно. В Едином совпадают все противоположности: минимум и максимум, природа и Бог, материя и форма, изменчивость потока и постоянство законов, возможность и действительность. Противоречивые суждения об одной и той же вещи оказываются в Нем истинными. Бруно принимает положение Кузанца о том, что «только Бог есть все то, чем Он может быть» (и потому называется Кузанцем possest, «возможность-бытие») — в Боге «действительность и возможность одно и то же». Принципиально новое по отношению к Кузанцу — то, что у Бруно в этом possest «возможность» есть материя, а «бытие» — форма. В Боге они сходятся, совпадают и есть Одно и То же, поэтому надо сказать, «что все, сообразно субстанции, едино, как это, быть может, понимал Парменид, недостойным образом рассматриваемый Аристотелем» (11: 106). Бог, как «первая субстанция», Первое Начало, Единое Начало Начал, есть, с одной стороны, «активная возможность», идеальные «формы-прообразы», согласно которым материей производятся все вещи. Но, с другой стороны, «Она же (Первая Субстанция) есть материя, пассивная возможность, подлежащая, пребывающая и присутствующая, приходящая почти всегда к Единому. Ибо не существует как бы нисходящего свыше подателя форм, который бы извне образовывал вещи и давал дм порядок». То есть, «Бог» в обычном понимании как активное, творческое начало во Вселенной, и «материя», согласно Бруно, есть лишь два равнозначных аспекта Единого, различаемые в нем только разумом. «Материя в действительности неотделима от Света, но различима только лишь с помощью разума». Разум и действительность. Бруно, вслед за Платоном («Филеб», 27b), называет Разум не «Началом», как форму и материю, а Причиной. Отличие Начала от Причины состоит в следующем: Начало — «то, что внутренним образом содействует устроению вещи и остается в следствии, как, например, материя и форма, остающиеся в составе, или же элементы, из которых составляется вещь и на которые она разлагается» (11:61). Причина же — «то, что содействует произведению вещи внешним образом и имеет бытие вне coстава, каковы действующая причина и цель...» (Там же). Разум, как утверждал Бруно (а до него — Платон, Кузанец и др.), есть начало всякой меры и основание всех границ. В терминологии XIX в. разум можно назвать «трансцендентальным основанием действительности». Разум, выделяющий в Едином полюса деятельного и пассивного начал, является первым условием множественности. Поэтому вся действительность, частью которой является и человек, условна и относительна. По отношению к Единому все вещи являются «ликами» или «волнами на поверхности»: «И то, что образует множественность в вещах, — это не Сущее, не Вещь, но то, что является, что представляется чувству и находится на поверхности вещи» (11: 141). «...Все это, производящее в телах разнообразие формирования, восполнения, фигур, цветов и других свойств и общих определений, есть не что иное, как различное лицо одной и той же субстанции, преходящее, подвижное, изменяющееся лицо неподвижного, устойчивого и вечного Бытия» (11: 139). Проекция, тень не может воздействовать на другую проекцию или тень, поэтому между вещами чувственно воспринимаемой действительности невозможно причинно-следственное взаимодействие. Причина любой вещи или события есть условие ее относительного бытия — то, что соединило полюса Начал — а это, по определению Платона и Бруно, есть только Разум. Разум «никому не принадлежит». Разделение на «мысль» и «мыслящего» — чисто логическое, и не существует субъекта мышления, отличного от самого мышления. Можно было бы сказать, что мысль «мыслит сама себя». Поэтому человеческий разум неотделим от Божественного Разума, как луч света — от самого света. Оправдание материи. Материя в одном из своих значений есть «Ночь», «подлежащее, тьма, наполняющая собой весь хаос». Это праматерь, содержащая в своем лоне все формы в свернутом виде. Соединяясь под действием Разума со Светом Оформляющего Начала, она порождает формы, развертывая их из себя. «Формы, коль скоро они выводятся из потенции материи, а не вводятся извне действующей причиной, более истинным образом находятся в материи и основание своего бытия имеют в ней». Понятие «материя» означает у Бруно, как и у Аристотеля, возможность. Но перипатетики понимали материю почти исключительно как «субстрат», вещество, принимающее форму. Бруно настаивает на более возвышенном и «умозрительном» понимании материи; постигается она не чувствами,но лишь разумом. Тем не менее материя у Бруно — не логическая абстракция, как у Аристотеля, а реальное, живое и деятельное начало. Бруно возвышает материю гораздо больше Кузанца, у которого в его Парадигме лишь бесконечно малая точка Иного присутствовала в Тождественном, Бруно же отождествляет Иное и Тождественное в Абсолюте. Бруно идет еще дальше и утверждает, что не только в Абсолюте, но и в природной материи возможность и действительность известным образом совпадают, поскольку: 1)материя (природа) не получает формы извне, а производит их из себя; 2)сама материя никогда не переходит в действительность, поэтому она не есть в этом смысле «возможность»; 3)форма «заключается в непрерывной способности материи». Вместе с материей оправдывается и женщина. Метафизики говорят (в диалоге Бруно — устами Полиинния, ссылающегося на мнение Аристотеля из первой книги «Физики»): она стремится к форме и никогда не удовлетворяется. Бруно отвергает это обвинение: 1) материя не получает ничего от формы; скорее, она сама дает формам возможность реализоваться; 2) материя не стремится к формам, а порождает их из себя; 3) материя не более желает форм (порождая их), чем отвращается от них (разрушая их). Материя — делает вывод Бруно — есть вещь вечная, совершенная, «божественное бытие в вещах». Душа и жизнь. Внутренняя способность материи к образованию форм именуется у Бруно «душой мира». Она не только находится внутри материи, но и составляет ее определяющее качество и господствующее стремление. Следовательно, все одушевлено, и жизнь стремится проявиться везде, где только находит подходящий проводник. Жизнь так же неуничтожима, как и материя. Ум — главная способность мировой души. Поскольку душа есть «сила» материи, то и Ум — не внешний «податель форм», как считали перипатетики, а «действующая причина внутри каждой вещи». «Душа есть ближайшая формующая причина, внутренняя сила, свойственная всякой вещи, как и сама материя, управляющая сама собой». «Душа является мастером, действующим из центра семени, создающим в соответствии с природой; она образует и захватывает, ваяет и пожирает ближайшую материю: она есть двигатель, действующий изнутри». «Лестница бытия» у Бруно принимает внешне тот же вид, что у Плотина, но понимание каждой ступени существенно иное (и ступени удобнее определять в обратном порядке, от материи к Единому, хотя это не принципиально). 1.Материя — аспект Абсолюта; одновременно вещество для творчества и само творчество. 2.Душа — способность и сила, неотделимая от материи потенция к творчеству. 3.Ум — то, что реализует и направляет эту потенцию; «спусковой крючок» и «прицел» для живого стремления души, «кормчий», правящий не извне, а изнутри материи, «внутренний художник», ваяющий формы изнутри материи. «Наполняет все, освещает Вселенную и побуждает природу производить как следует свои виды». Единое — то же, что Вселенная, бесконечная, вечная, неподвижная в целом, но самодвижущаяся в каждой своей части. Бессмертие души. Своей жизнью и смертью Бруно дал наиболее яркий образец ренессансного понимания бессмертия. В основе этого понимания у Бруно лежали три убеждения. Во-первых, жизнь неуничтожима во Вселенной, и с разрушением одной формы проявления жизни ее сила нисколько не убывает, но образует новую форму; оттого Бруно признавал «правдоподобным» учение пифагорейцев о переселении душ (метемпсихоз) ; Но индивидуальная форма души не вечна, преходяща, что подтверждается уже при жизни человека; все в природе есть поток, ничто не остается тем же в следующий миг, старое умирает, но этой смертью рождается новое (как смертью зерна — росток). То, что переходит от старой формы к новой, — не старая индивидуальность, которая, как и тело, была лишь сосудом для духа, и не абстрактные умозрения разума, как считали перипатетики. Новую форму могут оживить только сильное стремление или мечта, наиболее же всего — горение духа, героическое устремление познать Истину и принести ее свет людям. Поэтому, как Сократ и Христос, Бруно был уверен, что своей смертью, подвигом Истины, он побеждает смерть — не только для себя, но для многих, кто может воодушевиться его «героическим энтузиазмом». Такая смерть — наибольшее возможное для смертного человека приближение к бессмертию. Жертва конечной жизнью ради жизни бесконечной и универсальной есть наилучшее оправдание бытия человека на земле и кратчайший путь к бессмертию. «Смерть в одном столетии дарует жизнь в грядущих веках». Вселенная. Дж. Бруно фактически отождествляет Единое и Вселенную. Это и понятно: если две первые «ипостаси» Единого — форма и материя, то их соединение не может быть трансцендентным Единым Плотина, но должно воплощать в себе Вселенную в ее целостности. «Итак, Вселенная едина, бесконечна, неподвижна... Она не материя, ибо она не имеет фигуры и не может ее иметь, она бесконечна и беспредельна. Она не форма, ибо не формирует и не образует другого ввиду того, что она есть все...» Внутри Вселенной движение вечно, но сама она не движется, ибо она заполняет собою самй всю себя. По той же причине она не возникает и не уничтожается. «Сама природа... есть не что иное, как Бог в вещах». Поток царствует во всем: «Ничто изменчивое и сложное в два отдельных мгновения не состоит из тех же частей, расположенных в том же порядке... Ничто нельзя дважды назвать тождественным самому себе». Все вещи естественно стремятся к самосохранению под действием «естественного импульса искать то место, где оно (тело) может лучше и легче сохранить себя и поддержать свое настоящее существование; ибо к этому одному стремятся все естественные вещи, каким бы неблагородным ни было это стремление». Жизнь во Вселенной, по мнению Бруно, есть правило, а не исключение: «Мы полагаем, что для живых существ нашего рода обитаемые места редки... однако не подобает считать, что есть часть мира без души, жизни и ощущения, а следовательно, и без живых существ. Ведь глупо и нелепо считать, будто не могут существовать иные существа, иные виды разума, чем те, что доступны нашим чувствам». Атомы. Понятие «Абсолютного Минимума» Кузанца Бруно переосмыслил как «первую материю» и «субстанцию» вещей. «Единое состоит из неделимых» . «Природа осуществляет деление, которое может достичь предельно малых частиц, к которым не может приблизиться никакое искусство с помощью своих орудий». Из Минимума — атома, монады — развертывается все посредством движения. Так в геометрии неподвижная точка содержит все фигуры в свернутом виде и посредством движения развертывает их все. Бруно отрицает аристотелевскую концепцию движения, согласно которой любое движение предполагает внешний толчок. «Движение атомов происходит от внутреннего начала». Минимум, т. е., атом, содержит в себе потенцию всего, как одна искра — возможность мирового пожара. Кампанелла справедливо замечал, что у Бруно «Атом есть Бог». Этика героического энтузиазма. Бруно отвергает личное бессмертие как основу нравственности. «Ибо, если даже и ждем иной жизни и иного существования, то все же та наша жизнь не будет такой, какой мы живем сейчас. Ибо эта жизнь проходит навеки без всякой надежды на возвращение». Но раз жизнь кратка, ее надо до предела наполнить деятельностью, трудом, созиданием. Сам Бруно воплощал в своей жизни образец героического энтузиазма. Служение истине в наш «железный век», — говорит он, — необходимо сопряжено с героизмом. «Героический энтузиазм» означает «ту достойную восхищения душевную напряженность, свойственную философам», которая возвышает человека как над физическими муками, так и над самой смертью. «Я в своих мыслях, словах и действиях не знаю, не имею и не стремлюсь ни к чему иному, кроме искренности, простоты и правды. Именно так и будут судить обо мне там, где не поверят, чтобы героические дела и заслуги были бесплодны и бесцельны...» Литература Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. М., 1991. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995. Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского Средневековья. Т. 1 -2. СПб., 2001-2002. Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990. Жильсон Э. Философия в Средние века. От истоков патристики до конца XIV века. М., 2004. б. Бл. Иоанн Дунс Скот. Избранное. М., 2001. Св. Иустин. Философ и мученик. Творения. М., 1995. Либера А. де. Средневековое мышление. М., 2004. Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. М., 1997. Коплстон Ф. Ч. Аквинат. Введение в философию великого средневекового мыслителя. Долгопрудный, 1999. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М., 1979. Мейендорф И. Ф. Введение в святоотеческое богословие. Конспекты лекций. 2-е изд. Вильнюс; М., 1992. Оккам У. Избранное. М., 2002. Соколов В. В. Средневековая философия. 2-е изд. М., 2001. Примечания:1 В платоновском корпусе встречаются только два недиалогических сочинения. Это знаменитая «Апология Сократа», передающая защитительную речь Сократа на суде, хотя в этом произведении мы также встречаемся с элементами диалога (беседа Сократа с Мелетом), а также коллекция платоновских писем, об аутентичности которых до сих пор ведутся споры. Можно еще упомянуть об эпиграммах, которые древность приписывала Платону, хотя, скорее всего, они являются подложными. 2 Люди более старшего возраста могут вступать в половые связи, но их потомство должно выбраковываться. 14 Хотя это изречение и восходит к неоплатоникам, но по духу ближе именно Возрождению. 15 Флагелланты (бичующиеся), братство XIII —XV вв., стремившееся истязаниями тела искупить грехи; странствовали по Италии и Германии, особенно в 1348 г., когда свирепствовала черная смерть. 16 Лат. virtus и греч. arethe означали и «доблесть», «мужество», и «добродетель»; Virtus родственно санскритскому virya, которое означает также «мужество», «героизм», «мужская сила». 17 Абсолютного Максимума. 18 Это почти то же самое, что «хлопок одной рукой» в чань-буддизме. 19 Так Кузанец перефразирует место из Библии (Ис, 7: 9). 20 Пункты 1 — 3 — в работе «К христианскому дворянству»; 4 — «О вавилонском пленении Церкви»; 5 — «О добрых делах»; 6 — «О свободе христианина». |
|
||
|
Главная | Контакты | Нашёл ошибку | Прислать материал | Добавить в избранное |
||||
|
|
||||