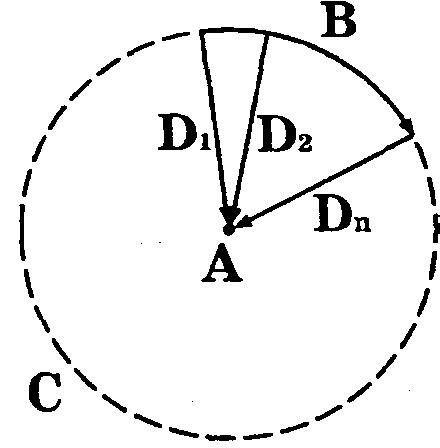|
||||
|
|
Раздел VI. СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ История философии не может быть истолкована как линейный процесс. Скорее она имеет циклический характер. Исчерпание внутренних возможностей той или иной традиции приводит к тому, что новые поколения мыслителей считают своим долгом разбить старые скрижали и отыскать альтернативные пути философского творчества. Эти пути тоже рано или поздно могут заводить в тупик, но поначалу новые идейные направления привлекают жизненностью своих установок. Подобный слом философских парадигм и зарождение новых традиций произошли в немецкой философии первой половины XIX века. Главным объектом критики оказалась гегелевская система. Сама природа гегелевской философии, казалось, исключала возможность ее постепенного реформирования. Ведь одной из особенностей системы, созданной Гегелем, является ее всеохватный характер. Он не оставил без внимания ни одной важной философской проблемы и доказывал, что все части его учения необходимо связаны друг с другом. Такую систему проще было не реформировать, а ниспровергать. Но для того чтобы критиковать Гегеля, надо было найти в его теориях какие-то спорные положения или слабые звенья. Из предыдущей главы становится ясно, что одним из таких звеньев могло оказаться учение о соотношении человеческого и божественного духа. Гегель считал, что ядром бытия является божественная идея, а роль человека сводится к опосредованию ее самосознания, абсолютного духа. Но можно было предположить, что на деле именно человек обладает подлинной реальностью, а абсолютный дух и вообще идея божественного есть не более чем продукт его мышления. Так поступил Людвиг Фейербах. Но это была не единственная возможная реакция на гегелевский идеализм. Ведь, перевернув Гегеля «с головы на ноги», Фейербах сохранил универсализм его установок. Человек, о котором говорил Фейербах, это скорее не индивид, а всеобщий или «абсолютный» человек, человечество или по меньшей мере единство Я и Ты. Маркс позже еще более усилил этот аспект, рассуждая о том, что сущность человека есть совокупность общественных отношений. Между тем, тезис о онтологическом доминировании всеобщего над единичным, который просматривается в системе Гегеля и его младогегельянских критиков (несмотря на все их заверения, что всеобщее не уничтожает единичное), не является очевидно истинным. Неудивительно, что среди оппонентов гегелевской философии оказались мыслители, подчеркивавшие именно это обстоятельство. В этой связи можно вспомнить, к примеру, сына И. Г. Фихте Иммануила Германа Фихте (1796— 1879) или Макса Штирнера (1806—1856), автора работы «Единственный и его собственность», в которой провозглашается принцип «для Меня нет ничего выше Меня». Но самым известным представителем антигегельянской метафизики индивидуального стал датчанин Серен Кьеркегор. Впрочем, нападки Кьеркегора на Гегеля были лишены систематичности. Более фундаментальную критику гегелевской философии осуществил Артур Шопенгауэр. В отличие от ряда других оппонентов Гегеля, он противопоставил его системе другую систему, не уступающую ей по стройности и превосходящую ее по ясности принципов. При этом по духу философия Шопенгауэра была полностью противоположна гегелевской. Гегель был большим оптимистом в вопросах познания, бытия и истории, а Шопенгауэр считал себя пессимистом и не верил в прогресс человечества. Глава 1. ШОПЕНГАУЭР Артур Шопенгауэр родился в Данциге (ныне Гданьск) в 1788 г. в семье богатого коммерсанта и будущей известной писательницы. Уже на 17-м году жизни, вспоминал он, «безо всякой школьной учености я был так же охвачен чувством мировой скорби, как Будда в своей юности, когда он узрел недуги, старость, страдание, смерть» (1:6, 222). Размышляя о бедствиях мира, Шопенгауэр «пришел к выводу, что этот мир не мог быть делом некоего всеблагого существа, а несомненно — дело какого-то дьявола, который воззвал к бытию твари для того, чтобы насладиться созерцанием муки» (1:6, 222). Этот крайне пессимистичный взгляд вскоре был модифицирован Шопенгауэром в том плане, что он стал утверждать, что хотя разнообразные бедствия неразрывно связаны с самим существованием мира, но сам этот мир есть лишь необходимое средство для достижения «высшего блага». Перестановка акцентов изменила и трактовку Шопенгауэром глубинной сущности мира. Из дьявольского начала она превратилась скорее в начало неразумное, но бессознательно ищущее самопознания. Чувственный же мир утратил самостоятельную реальность, представая кошмарным сном, раскрывающим неразумие мировой сущности и подталкивающим к «лучшему сознанию». Со временем эти мысли обретали у Шопенгауэра все более ясные очертания. Но это не значит, что от своих юношеских озарений Шопенгауэр прямиком зашагал к созданию философской системы, Его путь в философию был непростым, и он далеко не сразу понял, в чем состоит его истинное призвание. Несмотря на интерес к наукам, под влиянием своего отца он решил заняться бизнесом, но вскоре после трагической гибели Г. Ф. Шопенгауэра в 1805 г. оставил этот путь и продолжил обучение в Гёттингенском и Берлинском университетах, где он, в частности, прослушал курсы Г. Э. Шульце и И. Г. Фихте. После защиты докторской диссертации и публикации ее текста под названием «О четверояком корне закона достаточного основания» в 1813 г. Шопенгауэр взялся за написание трактата «Мир как воля и представление» (1819). Завершив работу в 1818 г. и отдав рукопись издателю, он отправился в путешествие по Европе, а затем в 1820 г. причислился в качестве приват-доцента к Берлинскому университету. Шопенгауэр настоял, чтобы его лекционный курс был назначен на те же часы, что и занятия Гегеля. Гегель, так же как и Фихте с Шеллингом, вызывал его полное неприятие. Он считал их «софистами», извратившими великие идеи Канта и дурачившими публику. Но конкурировать с Гегелем было очень трудно. Студенты не заинтересовались учением Шопенгауэра, и в последующие годы он отменял курсы из-за малого числа потенциальных слушателей. После 1831 г. Шопенгауэр окончательно порвал с университетом и через некоторое время обосновался во Франкфурте-на-Майне, где и провел последние десятилетия своей жизни. Он отгородил себя от посторонних занятий, сосредоточившись на разъяснении основных тезисов «Мира как воли и представления». Поначалу это удавалось не очень хорошо, но после выхода в 1851 г. сборника статей «Парерга и Паралипомена» ситуация стала меняться[39]. У Шопенгауэра появились ученики и последователи, и он обрел славу первого мыслителя Германии, «нового кайзера немецкой философии». Шопенгауэр умер в 1860 г. от паралича легких. В своем последнем тексте, письме, созданном им за три недели до смерти, он призвал к изучению «Критики чистого разума» Канта и подчеркнул неразрешимость предельных метафизических вопросов. Шопенгауэр гордился стройностью своей философской системы, изложенной в «Мире как воле и представлении». Но он подчеркивал, что никогда специально не стремился к системосозиданию. Он был скорее философом афористического плана. Вслушиваясь в мир, он улавливал его истины и «охлаждал» их в понятийной форме. Связность этих истин обнаруживалась, по словам Шопенгауэра, сама собой. Вместе с тем он не был визионером, и он прочно усвоил критические уроки кантовской философии. Помимо Канта, Шопенгауэр испытал влияние Платона и древнеиндийской мысли. Философия, говорил Шопенгауэр, начинается с осознания загадочности бытия и она нацелена на решение мировой загадки, пытаясь ответить на вопрос о сущности мира. Шопенгауэр считал, что еще никому не удавалось так близко подойти к решению, как сделал он. Учение о мире как представлении. Мир, по Шопенгауэру, существует двояко: в качестве представления и в качестве вещи в себе. Мир как представление — это мир, как он является человеческому субъекту, накладывающему на сущность мира как вещи в себе априорные формы чувственности и рассудка, а именно пространство, время и рассудочный закон причинности. В трактовке мира как представления Шопенгауэр в целом следует Канту, принимая основные выводы его учения о чувственности и рассудке, хотя и значительно сокращая кантовскую таблицу категорий. Лишь одна из двенадцати кантовских категорий, категория причины, реально востребована для восприятия явлений. Благодаря действию соответствующего этой категории закона причинности человек соотносит субъективные ощущения с порождающими их предметами в пространстве и времени[40]. Априорность пространства и времени доказывается «совершенной невозможностью устранить из мысли» последние, хотя «очень легко устранить из нее все, что в них представляется» (1:2, 28). Пространство и время иллюстрируют одну из разновидностей принципа достаточного основания, а именно закон основания существования, т. е. существования их частей относительно друг друга (например, основанием существования настоящего момента времени является окончание существования предшествующего момента). Изменения в пространстве и времени происходят по закону основания становления, т. е. причинности, а если это внутренние изменения, то по закону мотивации, или основания действия. Познание соотношения различных представлений происходит по закону основания познания, причем предельным основанием истинности абстрактных представлений оказывается их укорененность в чувственных созерцаниях. Но хотя созерцания являются, таким образом, «первым источником всякой очевидности» и даже «абсолютной истины» (1:1, 73), мир, данный в этих созерцаниях, далек от абсолютности. Господствующий в нем закон основания, отмечает Шопенгауэр, как раз и подчеркивает его несамодостаточность. Ведь этот закон демонстрирует обусловленность любой части мира, нуждающейся для своего существования в чем-то другом, а значит, не имеющей собственного бытия. И это касается не только частей мира. Мир явлений в целом тоже несамостоятелен: он существует только в представлении Я. Учение о мире как Воле. Но мир есть не только представление, он есть что-то и сам по себе. Выход к вещи в себе находится в самом человеке. Ведь человек известен себе не только извне, но и изнутри. Извне он предстает как тело, сложно устроенный биологический механизм с множеством органов и функций. В других людях мы видим только эту внешнюю оболочку. Но в самих себе мы замечаем нечто большее. Каждый из нас замечает, к примеру, что движение его рук и других частей тела обычно сопровождается неким внутренним усилием. Подобные состояния именуются волевыми актами. Их нельзя созерцать с помощью внешних чувств, они не находятся в пространстве. Шопенгауэр был уверен, что осознание всех этих обстоятельств позволяет понять, что телесные движения — это так называемые «объективации» актов воли. Последние вовсе не являются причинами этих движений, как иногда ошибочно утверждается. Они — те же самые движения, только рассмотренные изнутри, сами по себе. Впрочем, Шопенгауэр все же не утверждал, что акты воли в точности соответствуют уровню человека как вещи в себе. Ведь эти акты происходят во времени, а время — это форма внутреннего чувства, открывающего нам опять же явления, а не вещи сами по себе. И тем не менее именно внутреннее чувство позволяет нам предположить, считает Шопенгауэр, как устроены вещи сами по себе. Ведь его предметы ближе к ним, чем материальные объекты, отделенные от вещей самих по себе не только завесой времени, но и пространства. Одним словом, вещи в себе, если о них вообще можно говорить, должны быть описаны в терминах воли. Непосредственный выход к вещи в себе каждый из нас находит лишь в самом себе. Но вполне оправданно предположение, что и другие вещи, а не только наше тело, имеют свое сущностное бытие, волевую природу. Более того, гармоничное устройство мира позволяет говорить о его единой сущности, которую можно охарактеризовать как мировую Волю. Что же такое мировая Воля? Воля вообще есть некое стремление. В человеческой жизни обычно это стремление к какой-то цели. Цель эта актуально не существует, а лишь представляется. Представление — дело интеллекта. Но интеллект, уверен Шопенгауэр, совсем не обязательно сопровождает волю. Он связан с особой телесной организацией, а именно с наличием развитой нервной системы. По сути же интеллект (включающий у человека способность наглядных представлений, или созерцаний, т. е. чувственность, и рассудок, и способность абстрактных представлений — разум) является одной из разновидностей Воли, а именно так называемой «волей к познанию». Иными словами, Воля как таковая не нуждается в интеллекте. Она обходится без него, будучи слепым бесконечным стремлением. Сущность мира,таким образом, лишена рационального начала. Она темна и иррациональна. Неудивительно, что мир, порождаемый ею, являет собой арену бесконечных ужасов и страданий. Можно лишь удивиться наивности некоторых философов, считавших его наилучшим из возможных миров. В действительности он наихудший. Характеристики, подобные той, что приведена выше, в изобилии встречаются на страницах работ Шопенгауэра. И все же при ближайшем рассмотрении оказывается, что его позиция не столь однозначна. Во-первых, мировая Воля в любом случае не есть нечто совершенно неразумное. Ведь разум — одно из ее порождений. Во-вторых, надо отличать мир явлений, в котором идет отчаянная борьба за существование, от прекрасного мира «платоновских идей», являющихся непосредственными объективациями единой Воли. Учение об идеях и натурфилософия. Учение об идеях — один из важнейших блоков метафизики Шопенгауэра. Оно используется им в эстетике, а также в философии природы. Природа есть законосообразное существование пространственно-временных объектов. Но эти объекты далеко не однородны. Напротив, они поражают нас своим многообразием. Размышляя об его истоках, Шопенгауэр пришел к выводу, что главными «умножающими» принципами оказываются пространство и время. В самом деле, одна и та же по качеству вещь может неограниченное число раз воспроизводиться в других частях пространства и времени. В природе есть, однако, и качественное разнообразие, существенными компонентами которого оказываются различные типы живых организмов, а также разновидности неорганических веществ. Последние, правда, лишены индивидуализирующих характеристик, будучи проявлениями фундаментальных природных сил. Таким образом, многообразие природного существования может быть, по Шопенгауэру, истолковано как результат наложения пространства и времени как априорных форм чувственности конечных субъектов на совокупность изначальных сил природы, образующих своего рода иерархическую структуру, в основе которой оказываются силы притяжения и отталкивания, на которых базируются химические потенции, в свою очередь служащие фундаментом «жизненной силы». Жизненная сила как таковая — абстракция. Реальностью обладают ее конкретные спецификации, составляющие основу биологических видов, как в животном мире, или даже индивидов, как у людей. Для обоснования данной схемы Шопенгауэр должен был уточнить онтологический статус вышеупомянутых природных сил. Здесь ему и потребовалось учение об идеях. Каждой фундаментальной силе природы соответствует некий образец, «платоновская идея», существующая вне пространства и времени в представлении некоего субъекта, называемого Шопенгауэром «вечным оком мира». Очевидно, что «вечное око мира» не тождественно конечным субъектам, представляющим мир в пространстве и времени, хотя эти субъекты, как мы увидим, иногда могут вставать на его точку зрения. Но у них есть и нечто общее: созерцаемые ими предметы, будь то идеи или пространственно-временные феномены, не существуют сами по себе, а зависят от субъектов, которые, в свою очередь, не могут рассматриваться как подлинные субстанции, т. е. как самостоятельные сущности, и за ними может быть признано лишь коррелятивное объектам существование. Все это, по Шопенгауэру, означает, что весь наличный мир есть не более чем иллюзия, Майя, длинное сновидение.Вечное око мира, писал Шопенгауэр, это «единое существо», видит «великий сон», который снится ему так, что «вместе с ним его видят и все участники сновидения» (1:4, 165). Но если сон «мирового духа» являет ему умиротворяющую картину идей как непосредственных объективаций Воли, где царит гармония и порядок, то долгие сновидения конечных субъектов, называемые ими реальной жизнью, воистину кошмарны. Жизнь, считает Шопенгауэр, есть череда страданий, сменяющих друг друга. Страдают, правда, только существа, наделенные интеллектом. Но онтологические причины страданий пронизывают все сущее и коренятся в «принципах индивидуации» — пространстве и времени. Пространство создает условия для неограниченного умножения индивидов, соответствующих той или иной вечной идее. Но идей много, и в такой ситуации неизбежно возникает проблема нехватки материи, решающаяся в сражении всех против всех. Борьба за существование порождает вытеснение примитивных форм более высокими, целую серию природных революций, приводящих сначала к появлению жизни, а потом и высшей объективации мировой Воли (которую в силу ее направленности можно называть Волей к жизни) — человека. Сила человека — в его интеллекте. Интеллект вообще находится на службе волевых устремлений, и чем он сильнее, тем успешнее обладающее им существо может бороться за выживание. С другой стороны, уровень развития интеллекта прямо пропорционален степени чувствительности субъекта к бедствиям и страданиям. Получается, что самое жизнеспособное из всех существ, человек, в наибольшей степени осознает тягостность своего существования. Шопенгауэр считает это не парадоксом, а закономерным следствием укорененности мира в иррациональной Воле. Такая Воля не может не порождать страдание, и ее сущность должна ярче всего проявляться в ее высшем творении, человеке. Конечно, Шопенгауэр понимает, что, будучи разумным существом, способным предвидеть будущее, человек может попытаться облегчить свою жизнь и минимизировать страдания. Одним из средств достижения этой цели является государство, а также материальная и правовая культура. Шопенгауэр не отрицает, что развитие промышленности и другие культурные факторы приводят к смягчению нравов и уменьшению насилия. Но сама природа человека препятствует его всеобщему счастью. Ведь счастье или удовольствие, по Шопенгауэру, — чисто негативные понятия. Удовольствие всегда связано с прекращением страдания. Т. е. человек может быть счастлив лишь в момент освобождения от каких-то тягот. А если в его жизни вообще не остается тягот, то на их месте воцаряется омертвляющая скука, сильнейшее из всех мучений. Иными словами, любые усилия сделать людей счастливыми обречены на провал, и они лишь затемняют их истинное призвание. Но в чем же состоит это истинное призвание? В отрицании Воли, считает Шопенгауэр. Человек — единственное существо, которое может пойти наперекор естественному ходу событий, перестать быть игрушкой мировой Воли и направить эту Волю против нее самой. Возможность человека взбунтоваться против Воли не есть какая-то случайность. Хотя проявления Воли законосообразны, сама Воля безосновна, а значит, свободна и в принципе может отрицать себя. Но прежде чем отшатнуться от себя, она должна увидеть свою темную сущность. Человек выступает своего рода зеркалом мировой Воли, и именно через человека происходит(частичное) самоотрицание последней. Как высшая объективация свободной Воли, он оказывается в состоянии разрывать цепи необходимости и являть свободу в мире, где ее существование кажется почти невозможным. Отказ от воли может принимать различные формы. Первой и наиболее эфемерной из них оказывается эстетическое созерцание. Человек, находящийся в состоянии подобного созерцания, временно освобождает интеллект от служения интересам своей воли, выходит из пространственно-временной сферы индивидуализированного существования и представляет вещи в их сущностной форме, как идеи. Эстетическая концепция. Переход на эстетическую, незаинтересованную, но сопровождающуюся особыми чистыми удовольствиями позицию может произойти в любой момент, так как все вещи причастны идеям и могут быть предметом эстетической оценки. Но более всего пригодны для этого произведения искусства, продуцируемые именно для облегчения эстетического созерцания. Они создаются гениями, людьми, обладающими избытком интеллектуальных способностей и поэтому не только легко переходящими от созерцания вещей к созерцанию идей, но и могущими воспроизводить результаты этих созерцаний в форме, облегчающей такие созерцания у других людей. Поскольку произведения искусства выражают те или иные идеи, а мир идей имеет сложную иерархическую структуру, то Шопенгауэр считает оправданными рассуждения о соотносительной ценности различных искусств. Базовым искусством является архитектура. По большому счету ей присуще «только одно стремление: довести до полной наглядности некоторые из тех идей, которые представляют собой низшие ступени объектности воли, а именно тяжесть, сцепление, инерцию, твердость, эти общие свойства камня, эти ... генерал-басы природы, а затем, наряду с ними, свет» (1:1, 188). Естественным дополнением архитектуры является искусство гидравлики, обыгрывающее текучесть материи. Более высокой ступени объективации Воли, растительной жизни, соответствует парковое искусство, а также ландшафтная живопись. «Еще более высокую ступень раскрывает живописное и скульптурное изображение животных» (1: 1, 188). Но главный предмет искусства — это человек. В его изображении художник должен удерживать баланс в репрезентации свойств видового и индивидуального характера. Лучше всего природу человека передает поэзия. Это многообразное искусство, но самую динамичную и адекватную картину человеческой природы, конечно, дает трагедия. Совершенным видом трагедии, по Шопенгауэру, следует признать тот, при котором страдания людей предстают не как результат случая или какой-то исключительной злобы отдельных индивидов, а как следствие неотвратимых законов, когда «ни одна сторона не оказывается исключительно неправой» (1: 1, 221). Особое место в ряду искусств, по Шопенгауэру, занимает музыка. Если другие искусства преимущественно отображают отдельные идеи, то музыка есть «непосредственная объективация и отпечаток всей Воли, подобно самому миру, подобно идеям, множественное явление которых составляет мир отдельных вещей» (1: 1, 224). Этическое учение. Еще более радикальное, чем в случае эстетического созерцания, преодоление мира индивидуации демонстрирует, по Шопенгауэру, моральное сознание. Главным и, по существу, единственным источником морали он считает сострадание. Сострадание есть такое состояние, при которомчеловек принимает страдания другого как свои. Метафизически объяснить сострадание можно лишь при предположении глубинного единства всех людей в мировой Воле. В самом деле, принимая страдания другого как свои, я словно предполагаю, что на сущностном уровне не отличаюсь от другого, а совпадаю с ним. Осознание этого обстоятельства разрушает эгоизм, характерный для установки на реальность индивидуальных различий. Шопенгауэр пытается показать, что сострадание является фундаментом двух основных добродетелей — справедливости и человеколюбия. Человеколюбие подталкивает субъекта к деятельному облегчению страданий других людей, а справедливость оказывается эквивалентной требованию не причинять им страданий, т. е. не наносить им вреда. Все остальные добродетели вытекают из этих двух. На первый взгляд трактовка Шопенгауэром морального поведения и его высокая оценка добродетельной жизни плохо гармонируют с его рассуждениями о необходимости отрицания Воли к жизни. Ведь нравственный человек облегчает страдания других людей, т. е. стремится к тому, чтобы сделать их счастливыми, тем самым способствуя Воле к жизни, а вовсе не пресекая ее устремления. Шопенгауэр, однако, считает, что именно нравственный человек в полной мере может осознать глубину и неизбежность страданий разумных существ. Эгоист может как-то выстроить собственное благополучие и, забыв об ужасах жизни других, твердить об оптимизме. Для нравственного человека эта возможность полностью закрыта. Рано или поздно он должен встать на позицию философского пессимизма и осознать необходимость более решительных действий по освобождению себя и других из круговорота жизненных бедствий. Суть этого радикального пути выражает аскетическая практика человека, т. е. его борьба с собственной индивидуальной волей через ограничение функционирования ее объективации, а именно тела и его органов. Чистейшим раскрытием воли к жизни Шопенгауэр называет «сладострастие в акте совокупления» (1: 6, 152). Поэтому первым шагом на пути самоотрицания воли является целомудрие. Но хотя воля к жизни фокусируется в гениталиях, ее объективацией является все тело. Поэтому борьба с этой волей должна состоять в систематическом подавлении телесных побуждений. Следующий шаг аскетизма после усмирения полового инстинкта — «добровольная и преднамеренная нищета» (1:1, 325). В идеале же аскет должен уморить себя голодом. Уморение голодом — единственный вид самоубийства, который готов признать Шопенгауэр. Вопрос о правомерности самоубийства естественно возникает при рассмотрении его взглядов. На первый взгляд Шопенгауэр должен приветствовать и другие его разновидности. Ведь если тело коррелятивно индивидуальной воле, то простейший способ отрицания воли — немедленное прекращение существования тела. Но Шопенгауэр не разделяет такой позиции. «Классическое» самоубийство он называет «шедевром Майи», хитростью мировой Воли. Дело в том, что самоубийца отказывается не от воли к жизни, а только от самой жизни. Он любит жизнь, но что-то в ней не удается, и он решает свести с ней счеты. Подлинный же нигилист ненавидит жизнь и поэтому не спешит с ней расстаться. Это кажется парадоксом, но ситуацию может прояснить учение Шопенгауэра о посмертном существовании. Тема посмертного существования всерьез занимала Шопенгауэра. Он решительно отрицал возможность сохранения после разрушения тела так называемого «тождества личности», т. е. индивидуального Я со всеми его воспоминаниями. Категоричность объяснялась тем, что Шопенгауэр привязывал интеллектуальные качества личности к физиологическим процессам в мозге. Разрушение мозга при таком подходе означает полное уничтожение личности. С другой стороны, «умопостигаемый характер» каждого человека (его уникальная воля как вещь в себе) не подвержен тлению. Значит, он сохраняется после распада тела, и с внешней точки зрения все выглядит так, будто он какое-то время существует без интеллекта: воля к познанию, конечно, остается, но нереализованной. Однако со временем этот характер оказывается в новой интеллектуальной оболочке. С эмпирической точки зрения новая личность предстает совершенно отличной от старой. Отчасти так оно и есть — это пример того, как время может быть принципом индивидуации. И все же связь этих личностей несомненна. Шопенгауэр, правда, отказывается говорить о метемпсихозе, т. е. «переходе целой так называемой души в другое тело», предпочитая именовать свою теорию «палингенезией», под которой он понимал «разложение и новообразование индивида, причем остается пребывающей лишь его воля, которая, принимая образ нового существа, получает новый интеллект» (1: 5, 214). Теперь вопрос о самоубийстве действительно проясняется. Обычный самоубийца отрицает жизнь, но не волю к жизни. Поэтому его умопостигаемый характер вскоре вновь проявляет себя. Аскет же методично давит волю к жизни и выпадает из колеса перерождений. Но что ждет человека после отрицания воли к жизни? Это, конечно, труднейший вопрос. Ясно лишь, что хотя на первый взгляд аскет ведет жизнь, полную страданий, и даже сознательно стремится к ним, она не исчерпывается страданиями, ибо «тот, в ком зародилось отрицание воли к жизни ... проникнут внутренней радостью и истинно небесным покоем» (1: 1, 331). Можно поэтому предположить, что полное угасание воли к жизни зажжет новый, непостижимый свет в умопостигаемом характере человека. Состояние, возникающее после отрицания воли к жизни, можно было бы описать как «экстаз, восхищение, озарение, единение с Богом» (1:1, 348). Впрочем, это уже не философские характеристики: «Оставаясь на точке зрения философии, мы должны здесь удовлетвориться отрицательным знанием» (1:1, 348). Эта оговорка Шопенгауэра не случайна: «Я хотя и указал в заключение своей философии на область иллюминизма как на существующий факт, — писал он, — но остерегся хотя бы на один шаг приблизиться к ней ... дошел лишь до тех пределов, до которых возможно дойти на объективном, рационалистическом пути» (1:5, 10). Собственно же философский ответ на вопрос о состоянии воли после ее угасания состоит в том, что его надо мыслить как Ничто. Тем не менее именно философия показывает возможность трактовки этого Ничто не в абсолютном, а в относительном смысле, равно как и использования иллюминативного опыта для его характеристики. Ведь мир как вещь в себе не целиком тождествен Воле к жизни. Если бы это было так, ее отрицание давало бы чистое Ничто. На деле вещь в себе именуется Волей лишь по самому непосредственному ее проявлению. Так что у нее могут быть и другие свойства, и угасание воли к жизни может приводить к их обнаружению. Далее, философия указывает, что обнаружение этих свойств нельзя мыслить в субъект-объектных категориях. Если иллюминативный опыт возможен, то это такой опыт, в котором исчезает различие субъекта и объекта. Наконец, философия разъясняет, что самоотрицание индивидуальной воли как вещи в себе не тождественно угасанию мировой Воли в целом. Ведь индивидуальная воля как вещь в себе — лишь один из дифференцированных актов этой Воли. Иными словами, святой приводит в нирвану себя, но не весь мир. Впрочем, в нирвану попадают не только святые. Этой участи Шопенгауэр удостаивает также и героев, т. е. людей, боровшихся за общее благо, но не снискавших людской благодарности. Эта характеристика героев словно специально подогнана Шопенгауэром под себя — героем в обычном смысле он, похоже, не был, хотя нельзя забывать, что распространенное мнение о его скверном характере содержит в себе значительное искажение истины. Но если он и готов был признать себя героем, святым он себя точно не считал и вообще говорил, что философ не обязан быть святым. Его дело — открывать истину, а на следование ей может и не остаться сил. Религия и теология. Рассуждения о святости, нирване, единении с Богом заставляют задуматься об отношении Шопенгауэра к религии. Свое понимание религии он суммировал тезисом о том, что она есть «народная метафизика» (1: 5, 252). Подобно Канту, Шопенгауэр считал, что у каждого человека есть потребность в метафизике, т. е. в уяснении глубинной сущности мира, сущности, лежащей за пределами физического существования. Более или менее адекватное удовлетворение этой потребности может дать философия. Но философия — трудная вещь, и она недоступна пониманию большинства. Поэтому ее заменяет некий суррогат. Это и есть религия. Суррогатность религии проявляется в том, что высшие истины подаются в ней в виде аллегорий. С одной стороны, это облегчает их усвоение. С другой — порождает некое внутреннее противоречие. Дело в том, что религии не могут прямо объявлять свои догматы аллегориями, так как это сразу подорвет доверие к ним. Поэтому они вынуждены настаивать на их буквальной истинности. Но это часто приводит к нелепостям. Таким образом, у религии оказывается «два лица: лицо истины и лицо обмана»(1: 5, 261). И Шопенгауэр предрекает время, когда свет просвещения позволит человечеству полностью отказаться от религий. Но, заметно уступая философии в эвристическом отношении, религия в любом случае параллельна ей. Однако общепринятой философской системы не существует. Нет единообразия и среди религий. Как и в философии, здесь можно говорить о большей или меньшей степени приближения к истине. «Наилучшей» религией Шопенгауэр считает буддизм. Вместе с христианством и брахманизмом он относит его к пессимистическим религиям. Пессимистические религии смотрят на мирское существование как на зло и нацелены на отрицание мира. Им противостоят оптимистические религии, такие как иудаизм и его порождение — ислам. К ним примыкает и пантеистическое мировоззрение. Пантеизм, по Шопенгауэру, вообще абсурден, так как отождествление Бога с миром приводит к противоречию: мир ужасен, а Бог, как предполагается, мудр — как же он мог избрать для себя такую жалкую участь? Теизм, отделяющий мир от Бога, по крайней мере последователен. Происхождение теистических представлений достаточно очевидно. Люди испытывают страх перед явлениями природы и пытаются взять их под контроль. Само это стремление уже подразумевает наличие у человека разума, к некоторым особенностям функционирования которого сводится и вышеупомянутая метафизическая потребность, присущая всем людям. Люди наделяют неведомые силы природы антропоморфными качествами, чтобы вымаливать у богов или единого Бога различные милости. Для действенности таких представлений онидолжны быть упорядочены и опираться на какой-либо авторитет. В свою очередь, религиозные учения могут цементировать государство. А вот влияние их на нравственность, считает Шопенгауэр, весьма сомнительно. Другое дело, что они могут приносить субъективное утешение людям. Впрочем, теистические воззрения все равно неприемлемы. Политеизм вообще не является подлинной религией, не доходя до уразумения единой сущности мира, а монотеизм основан на концепции творения мира, причем творец мыслится по модели человеческого интеллекта, как разумное существо, индивид. Но сущность мира не индивидуализирована и не разумна, это слепая Воля. Кроме того, учение о творении выносит ее за пределы мира: «Теизм в собственном смысле вполне походит на утверждение, что при правильной геометрической конструкции центр шара оказывается вне его» (1: 6, 157). Креационизм теизма плохо согласуется и с учением о вечности умопостигаемых характеров людей — возникшее должно рано или поздно исчезнуть — а также несовместим с абсолютной свободой человеческого существа, предполагающей его полную автономию. Воля к жизни как «в себе» мира не может быть названа Богом в теистическом смысле еще и потому, что предполагается, что такой Бог должен быть благ, а она порождает страдания. Нельзя именовать Богом (разве что фигурально) и успокоенную Волю, ибо «Бог был бы в данном случае тем, кто не хочет мира, между тем как в понятии «Бог» лежит мысль, что он хочет бытия мира» (1: 6, 151). Неудивительно, что при таком подходе лучшей религией для Шопенгауэра оказывается буддизм, религия без Бога, но с четким противопоставлением мира страданий, сансары, и состояния, свободного от порождающих страдания желаний, нирваны. Однако поскольку Шопенгауэру свойствен динамический подход к соотношению активной и успокоенной воли, т. е. поскольку он считал, что самоотрицание воли предполагает ее самоутверждение, что нирвана не изначальна, а должна быть достигнута волей и условием ее достижения является порождение мира индивидуализации и страдания, то он все-таки мог привлекать квазитеологическую терминологию и, в частности, искать союза с христианством, близким ему своей идеей искупления. Он даже говорил, что его учение можно было бы назвать настоящей христианской философией, и делал попытки перевести главные тезисы своей доктрины на язык христианской догматики. Согласно его интерпретации, Воля к жизни — это Бог Отец, «решительное отрицание воли к жизни» — Святой Дух. Тождество Воли к жизни и ее отрицания являет Бог Сын, богочеловек Христос. Учитывая мнение Шопенгауэра об аллегоричности всех религиозных положений, приведенные формулы можно истолковать как утверждение о включенности человека в процесс возвращения мировой сущности к самой себе, в процесс квази-божественного самопознания. Очевидны аналогии этой философемы Шопенгауэра с глубинными интуициями Шеллинга и Гегеля, у которого Абсолютный дух тоже нуждается для самопознания в человеке. Правда, Гегель считал, что это самопознание наиболее адекватным образом реализуется в мысли, Шопенгауэр же отводит эту роль действию. Еще одно отличие — место изначального принципа у Гегеля занимает Абсолютная идея, у Шопенгауэра — темная Воля. Однако оно, возможно, не столь важно, так как хотя эта Воля и темна, в ней просматриваются некие сверхразумные интенции, Провидение, ведущее ее к самоосвобождению. Более существенное различие в подходах Шопенгауэра и Гегеля к религии вообще и христианству в частности состоит в том, что последний гораздо бережнее относился к догматике и пытался оказать философскую поддержку рациональной части христианской теологии, в частности отбить опасные атаки Канта на доказательства бытия Бога. Шопенгауэр действовал иначе. Он полагал, что «нигде нет такой необходимости различать ядро и скорлупу, как в христианстве», добавляя, что «именно потому, что я люблю ядро, я иногда разбиваю скорлупу» (1:6, 163). «Скорлупа» христианства — это прежде всего элементы иудаизма, оптимистической посюсторонней религии Ветхого Завета. Его объединение с Новым Заветом стало возможным только потому, что в Ветхом Завете все же есть элементы пессимизма, выраженные в истории грехопадения. Кроме эклектизма христианство имеет и другие недостатки. Оно преувеличивает значение конкретных исторических событий и игнорирует сущностное единство всех живых существ, поощряя жестокое обращение с животными, — это вызывает особое негодование у Шопенгауэра. Что же касается рациональной (или «естественной») теологии, то ее, по Шопенгауэру, попросту не существует. Ведь ее фундаментом должны быть доказательства существования Бога, но все они несостоятельны. Онтологический аргумент, заключающий от идеи всесовершенного существа к его существованию, это просто софизм, космологическое доказательство, восходящее от мира как действия к Богу как первопричине, ошибочно, так как закон причинности применим только внутри мира, а физико-теологическое, которое отталкивается от целесообразности мирового устройства и выводит из этого представление о разумном Архитекторе мироздания, недостаточно, так как целесообразность может быть объяснена и без привлечения понятия разумного существа, — из единства мировой Воли. Сопоставив эти рассуждения с другими тезисами Шопенгауэра, можно, впрочем, заметить, что трансформированное физико-теологическое доказательство все же должно было играть важную роль в его системе. Целесообразность природы, заявляет он, объясняется единством Воли к жизни. Но откуда известно об этом единстве? Ведь сам Шопенгауэр говорил, что не знает, как глубоко уходят в вещь в себе «корни индивидуации». И доводом в пользу наличия высшего единства уникальных волевых актов могло бы стать именно указание на целесообразность мира, делающую вероятным предположение о существовании в нем некоего координирующего центра. В общем, отношение Шопенгауэра к религии и теологии нельзя назвать однозначным. Одно несомненно: его философия эмансипирована от религии. Своими предшественниками в этом плане Шопенгауэр считал Бруно и Спинозу. Но лишь у него подобная установка предстала во всей ее чистоте. В его философии нет ни зависимости от религии, ни бунта против нее. И даже если он обращается за поддержкой к религиям, союз с ними всегда оказывается свободным. Шопенгауэр показал, сколь яркой может быть философия, не скованная религиозными догмами. В этом громадное значение его системы, хотя ее влияние, конечно, этим не ограничивалось. Уже при жизни у Шопенгауэра появились верные последователи, которых он в шутку называл «евангелистами» и «апостолами». После смерти учителя Ю. Фрауэнштедт выпустил в свет собрание его сочинений и опубликовал фрагменты рукописного наследия Шопенгауэра. И хотя эти издания были весьма несовершенными с научной точки зрения, новые тексты еще больше подогрели интерес к идеям Шопенгауэра. Среди широкой публики успехом пользовались (и пользуются поныне) «Афоризмы житейской мудрости» и «Метафизика половой любви» (глава второго тома «Мира как воли и представления»). Профессиональных же философов привлекали базовые принципы системы Шопенгауэра. Многие, правда, считали, что они нуждаются в модификации. К примеру Э. Гартман, автор «Философии бессознательного», полагал, что первоначало сущего должно быть и Волей, и Идеей вместе. Коррекции подверглась у него и концепция отрицания Воли — оно может быть действенным лишь при коллективном самоубийстве прозревшего человечества. Совершенно другие выводы из теорий Шопенгауэра сделал Ф. Ницше. Подобно тому, как Фейербах перевернул философию Гегеля, Ницше радикально переосмыслил учение Шопенгауэра о Воле к жизни. Отказавшись от трансцендентных аспектов этого учения, Ницше пришел к выводу о безальтернативности подобной Воли, а значит, и о необходимости ее возвышения, а не иллюзорного отрицания. Учитывая влияние на Ницше, Шопенгауэр может по праву считаться предшественником «философии жизни», важного направления европейской мысли конца XIX в. Не менее оправданными выглядят и попытки усмотреть в его системе элементы «индуктивной метафизики», представленной в XIX в. такими именами, как Г. Т. Фехнер, В. Вундт и др. В прошлом столетии влияние Шопенгауэра испытали, к примеру, Шелер, Витгенштейн и Хоркхаймер, хотя оно и не было значительным. Зато ХХ в. стал временем расцвета историко-философских штудий, посвященных этому мыслителю. Многие отечественные и западные авторы писали о глубинных противоречиях метафизики Шопенгауэра — это стало своеобразной нормой с времен К. Фишера. Правилом хорошего тона является и проведение параллелей между идеями Шопенгауэра и Гегеля (а также Фихте и Шеллинга) в контексте утверждений о том, что, несмотря на все различия в акцентах, их системы обнаруживают несомненное «семейное сходство». Между тем различия в акцентах имеют порой решающее значение в истории философии. Философия всегда несет не только логическое, но и эмоциональное содержание. И ощущение экзистенциальной трагичности Шопенгауэра остается, несмотря на все оговорки. Сближение его философии с гегелевской не проходит еще и потому, что Шопенгауэр озабочен прежде всего проблемой человека и философствует «от первого лица», а Гегеля гораздо больше интересует Абсолют, от имени которого он словно бы и повествует. Гегелю было не занимать эпистемологического оптимизма, и для него не существовало тем, непосильных для спекулятивного разума. Шопенгауэр же всегда помнил о границах познания. Многие «вечные вопросы» он намеренно оставлял без ответа. Это отчасти объясняет ощущение недосказанности или противоречивости, возникающее при ознакомлении с его системой. Но ведь проще на словах снять противоречия, чем удержаться от этого соблазна. Философия Шопенгауэра не создает идеального мира абстракций, а бросает читателя в реальный мир с его реальными проблемами. Литература1.Шопенгауэр А. Сочинения: В 6 ?. ?., 1999 — 2001. 2.Schopenhauer A. Samtliche Werke. Hrsg. ?. P. Deussen u. a. Bd. 1 — 16. Munchen, 1911-1942. 3.Schopenhauer A. Samtliche Werke. Bd. 1—7. Hrsg. ?. ?. Hubscher. 4 Aufl. Mannheim, 1988. 4.Schopenhauer A. Der handschriftliche Nachlass. Hrsg. v. ?. Hubscher. Bd. 1—5. Frankfurt a. M., 1966- 1975. 5.Пятого номера нет. 6.Гардинер П.Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма. М., 2003. 7.Гулыга А. В., Андреева И. С. Шопенгауэр. М., 2003. 8.Гусейнов ?. ?., Скрипник А. Пессимистический гуманизм Артура Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1992. С. 5— 18. 9.Коплстон Ф. Ч. От Фихте до Ницше. М., 2004. С. 300-333.Фишер К. Артур Шопенгауэр. СПб., 1999. 10.Фолькельт И. Артур Шопенгауэр, его личность и учение. СПб., 1902. 11.Чанышев А. А. Учение Шопенгауэра о мире, человеке и основе морали // 12.Шопенгауэр А. Сочинения: В 6 т. М., 1999-2001. Т. 1. С. 452-468. 13.Janaway С. Self and World in Schopenhauer's Philosophy. Oxford, 1989. 14.Hubscher ?. Denker gegen der Strom: Arthur Schopenhauer gestern, heute, morgen. Bonn, 1973. 15.Maker ?. Arthur Schopenhauer: Transzendentalphilosophie und Metaphysik des Willens. Stuttgart, 1991. 16.Safranski R. Schopenhauer und die wilden Jahre der Philosophie. Eine Biographie. Munchen, 1987. Глава 2. ФЕЙЕРБАХ Людвиг Андреас Фейербах родился в 1804 г. в баварском городе Ландсгуте в семье известного криминалиста, учился теологии в Гейдельбергском университете, затем философии в Берлинском университете, где в течение четырех лет слушал лекции Гегеля. Именно Гегелю он посвятил в 1828 г. свою диссертацию «О едином, универсальном и бесконечном разуме». Тогда же он начинает свою преподавательскую карьеру в Эрлангенском университете. Но после раскрытия его авторства вышедшей в 1830 г. анонимно чрезвычайно смелой работы «Мысли о смерти и бессмертии» Фейербаха увольняют из университета. Тогда он сосредоточивается на историко-философских исследованиях: «История новой философии от Бэкона до Спинозы» (1833), «О Лейбнице» (1837), «О Пьере Бейле» (1838), рецензии на гегелевскую «Историю философии» и «Философию права» Шталя. В это время выходят его философские афоризмы «Писатель и человек» (1834). Переселившись в 1837 г. на 25 лет в небольшую деревню Брукберг в Тюрингии, Фейербах принимает активное участие в издании младогегельянского «Hallische Jahrbucher». Считается, что в 1839 году в произведении «К критике философии Гегеля» он переходит на материалистические позиции: «Темой всех моих позднейших сочинений является человек как субъект мышления, тогда как прежде мышление само было для меня субъектом и рассматривалось мною как нечто самодовлеющее» ( 1: 2, 881 ). Но это был своеобразный, как сам Фейербах его назовет, антропологический материализм, основывающийся прежде всего на критике христианства. Целый ряд работ этого периода — «О философии и христианстве» (1839), «Предварительные тезисы к реформе философии» (1842) были запрещены. Изданная в 1841 году «Сущность христианства» оказала сильнейшее воздействие на умы современников, в том числе русскую общественность (в разное время о Фейербахе писали Н. Станкевич, А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Г. Плеханов, В. Ленин) и сразу сделала Фейербаха знаменитым. Более подробно свой проект философии Фейербах изложил в работах «Основные положения философии будущего» (1843) и «Сущность религии» (1845). С «Лекциями о сущности религии» Фейербах с большим успехом выступал перед студентами Гейдельбергского университета в течение трех месяцев с декабря 1848 г. по март 1849 г., но не в здании университета, а в ратуше, и продолжить преподавание ему так и не разрешили. Более поздние работы — «Теогония« (1857), «О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли» (1866), «Эвдемонизм» (1869) — уже такой популярности не имели. В последние годы, когда фабрика его жены ра-зорилась, Фейербах вынужден переехать с семьей в Рахенберг под Нюрнбергом, он вступает в социал-демократическую партию, штудирует работы Маркса. Фейербах умер в 1872 г., и на его похоронах в Нюрнберге были тысячи рабочих. С первых своих работ Фейербаху удалось предвосхитить философскую проблематику ХХ в. с ее так называемым субъективистским вниманием к человеческой природе, к идее общечеловеческого родового культурного бессмертия. Объяснения этого внимания формируются у Фейербаха постепенно — с развитием критики гегелевской философии, под влиянием которой он сначала пишет о божественной бесконечности как «жизненной первопричине человека». Как он сам говорит о своей философской эволюции, «моей первой мыслью был Бог, второй — разум, третьей, и последней, — человек: субъект божества — разум, а субъект разума — человек» (1: 1, 165). Фейербах становится одним из первых немецких философов XIX в., не только усомнившихся в основательности универсальной философской системы Гегеля, но — и это самое интересное в философии Фейербаха — попытавшихся предложить принципиально новый предмет и метод философии: «новая философия превращает человека, включая и природу как базис человека, в единственный, универсальный и высший предмет философии, превращая, следовательно, антропологию, в том числе и физиологию, в универсальную науку» (1:1, 202). Таким образом, сохраняется претензия всей философии Нового времени на научность, и эта задача решается выбором такого предмета, который был бы одновременно универсальным и конкретным, — человека. Это во многом определило некоторые неточности в рассуждениях одного из первопроходцев послегегелевской эпохи. В основание нового проекта философии Фейербах положил антропологический принцип. Антропологический принцип должен снять, по мысли Фейербаха, те внутренние проблемы, которые возникли в гегелевской философии, «пагубным образом» соединившей требование научности и рациональности и религию. Дебаты о личности Бога и бессмертии души — дебаты об ортодоксальности гегелевской философии, которые привели к расколу гегельянства, — это самое очевидное противоречие. Его причина глубже — в самом гегелевском панлогизме: «Не было бы природы, никогда логика, эта непорочная дева, не произвела бы ее из себя» (1:1, 243). Универсальная философия Гегеля не способна объяснить естественных единичных вещей. Фейербах напоминает нам, что Гегель считал природу царством случайностей, непригодным для чистого выражения понятия. Абстракция понятия лишает науку того единственного предмета, который достоин, по мысли Фейербаха, исследования, — живой природы. Природа — это все конкретное, единичное, чувственно воспринимаемое качество. Именно поэтому главным инструментом бесконечного познания являются чувства: «Я мыслю при помощи чувств...» (1: 2, 17). Именно человеческие чувства, главное из которых — зрение, дают представление о качественном многообразии мира. Бытие без качества — это химера: «только определенное, отличимое, индивидуальное существо есть существо действительное» (1:2, 635). Природа многообразна, и познать ее люди могут, цитируя Гете, лишь «в совокупности» — силами многих поколений: «Истина не есть ни материализм, ни идеализм, ни физиология, ни психология; истина — только антропология» (1:1, 224). Фейербах своеобразно противопоставляет теории, которая не может объяснить всего, представление о практике как общеродовом человеческом опыте, связанном с включенностью каждогоиндивидуума в общую для всех закономерную естественную природную среду. Так он понимает объективность научной истины: «Если я мыслю согласно мерилу рода, значит, я мыслю так, как может мыслить человек вообще и, стало быть, должен мыслить каждый в отдельности, если он хочет мыслить нормально, закономерно и, следовательно, истинно. Истинно то, что соответствует сущности рода; ложно то, что ему противоречит. Другого закона для истины не существует» (1:2, 192). При этом Фейербах делает акцент на объективности предмета знания: «Мое ощущение субъективно, но его основа или причина объективна» (1:1, 572). Чувства дают раздельно все явления, разум затем все приводит в порядок на основании объективно существующих связей и отношений, которые показываются ощущениями: «только то мышление реально, объективно, которое определяется и исправляется чувственным созерцанием; только в таком случае мышление есть мышление объективной истины» (1: 1, 196). Чтобы соответствовать универсальной задаче, следует избавиться от кантовского априоризма и поставить философию Гегеля на ноги: не природа должна рассматриваться как инобытие духа, а дух должен рассматриваться как инобытие природы. Именно с этой номиналистической материалистической позиции разворачивается критика существующих религий, и прежде всего христианства. Младогегельянцы Д. Штраус и Б. Бауэр рассуждали о происхождении евангельских мифов, разделяя в конечном счете позиции гегелевского абсолютного идеализма, предлагая своеобразную пантеистическую его трактовку. Фейербах же считает: «Кто не отказывается от философии Гегеля, тот не отказывается и от теологии. Учение Гегеля, что природа, реальность положена идеей, есть лишь рациональное выражение теологического учения, что природа сотворена Богом, что материальное существо создано нематериальным, то есть абстрактным существом» (1: 1, 128). Тождество абсолютного идеализма Гегеля и религии — в противопоставлении мышления конкретному единичному бытию, чувственной вещи. Но если теология представляет абстрактное существо как личность Христа, то идеализм и гегелевская философия как самая развитая форма идеализма абсолютизирует само мышление, разум. Заслуга идеализма, по мнению Фейербаха, заключается в том, что речь идет в конечном счете о человеческом мышлении, о человеческом Я, которое становится надмировой сущностью. И в какой-то степени идеализм, с точки зрения Фейербаха, утверждает достоинство человеческой личности. Но для того чтобы достичь естественного понимания человека, следует прежде всего устранить психофизический дуализм в понимании человеческой природы и ввести действительное отношение: «бытие — субъект, мышление — предикат» ( 1: 1, 128). Объективное пространственно-временное существование человека управляется естественными законами. Человеческое общество оказывается также частью природы, существующим по тем же законам. Поэтому человеческое существо понимается не абсолютно, а в его необходимой связи с другими такими же существами — «бытие предшествует мышлению... в мышлении я осознаю лишь только то, чем я уже являюсь без мышления: не существом, которое якобы ни на чем не основано, а существом, основывающимся на другом существе» (1: 1, 566 — 567). Здесь следует обратить внимание на этический контекст философской антропологии Фейербаха — мы увидим, как это будет реализовано в позитивной, этической части его проекта.Причинность, необходимость и закономерность — не результат внесения их в природу человеческим рассудком, наоборот, законы действительности оказываются законами мышления. Эти законы, по мнению Фейербаха, действуют с неизменностью. Это заставило многих исследователей, прежде всего К. Маркса, критиковать Фейербаха за метафизичность и созерцательность . его материализма. В знаменитом одиннадцатом тезисе о Фейербахе Маркс указывает на то, что задача философа состоит не только в том, чтобы объяснить мир, а в том, чтобы его преобразовать. А в работе «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» Ф. Энгельс рассматривает философию Фейербаха как продолжение классической метафизической традиции и критикует его антропологический метод исследования религии. С точки зрения марксистов, человек у Фейербаха не историчен, социальность растворена в природе и подчинена законам природы, практика понимается в рамках стереотипов «родового знания», критика религии абстрактна и предполагает создание новой религии. Фейербах сам считал главным предметом своих исследований религию. Он специально отмечает, что нет особого религиозного чувства, с которым человек появляется на свет. Фейербах рассматривает религию антропологически — как попытку человека познать свою природу. Он отмечает, что его «метод — ...посредством человека свести все сверхъестественное к природе и посредством природы все сверхчеловеческое свести к человеку, но неизменно лишь опираясь на наглядные, исторические, эмпирические факты и примеры» (1:1, 265 — 267). В этом смысле Фейербах и пишет о религии будущего как истинной религии естественного человека. Человек, как было сказано, «основывается на другом существе», то есть человек зависим в самом широком смысле этого слова — от других людей, от природных стихий. Все человеческие эмоции связаны с этой зависимостью. Его эгоизм и стремление к счастью — то, что объясняет поведение человека, — тоже связаны с чувством зависимости. Религия, эксплуатируя образ родовой зависимости человека от сверхъестественных сил, становится необходимой, спасительной. Парадоксальным образом, по мысли Фейербаха, человек, стремясь отвлечься от невзгод реального мира, стремясь осуществить свое желание счастья, обращается к Богу, который есть не что иное, как иное определение самого человека, его чаяний и надежд. В этом смысле Фейербах пишет, что «человек есть начало, человек есть середина, человек есть конец религии» (1: 2, 219). Обращаясь к Богу, человек обращается к самому себе, к своим идеям, к результату работы своей собственной человеческой фантазии. Для Фейербаха религия исторична, она появляется не случайно, а связана с интересом человека к собственной природе, поэтому существуют различные формы религиозных верований. Причина этих различий — в условиях жизни людей. Благодаря силе воображения человек превращает свою природу в религиозную идею. «Естественная» религия, язычество, это религия человека, слитого с природой, полностью зависящего от нее, и в ней обожествляются конкретные природные условия, в которых живут те или иные люди. Возникновение культа различных животных тоже объясняется зависимостью первобытных скотоводов или охотников от того или иного вида животного. По мысли Фейербаха, религия изображает не само явление природы или животное, а то, как его видит человеческая фантазия, — это очеловеченные образы, связанные с конкретными желаниями и потребностями.Общество привносит в жизнь человека новые виды зависимости — от закона, от власти, от общественного мнения, от морали. Власть все больше концентрируется, с точки зрения Фейербаха, как на земле, так и в религиозном сознании человека, где появляется единый и всемогущий христианский Бог. Христианство поэтому оказывается самой могущественной и самой угнетающей человека религией. И только просвещение может освободить человека от религиозных идей и показать, что достижение желаний не зависит от потусторонних сил. Поэтому он пишет о будущей закономерной смене существующих религиозных верований новой естественной религией свободного человека, которое даст конкретное определение природы человека. Эту религию он называет философией будущего, или эвдемонизмом, — учением о счастье. Стремление к счастью лежит в основании всех поступков человека — человек эгоистично пытается получить то, что он считает для себя благом, и избежать того, что он считает для себя несчастьем. Критерием отличения первого от второго является ощущение. На ощущении, таким образом, строится «здоровая, простая, прямодушная и честная мораль, мораль человеческая». Фейербах считает, что эгоизм — это философский принцип, предполагающий гармонию интересов. Для Фейербаха здоровый эгоизм обязательно включает в себя сопричастность другому, соучастие и сочувствие ему. Настоящая мораль исходит из потребности во всеобщем счастье. По мысли Фейербаха, всеобщая любовь — важнейшая составляющая человеческой природы. Поэтому еще одно название этого проекта — философия любви, философия Я и Ты. Предвосхищая философию Другого ХХ в., Фейербах отмечает, что человек существует только в силу того, что у него есть какое-то отношение к другому человеку, он является тем, кто как-то проявляет себя по отношению к другому. Робинзон не только не может быть счастлив на необитаемом острове в одиночестве, он существует там только благодаря Пятнице: «Я и Ты, субъект и объект, отличные и все же неразрывно связанные — вот истинный принцип мышления и жизни, философии и физиологии» (1:1, 575). Бескорыстная любовь к другому оказывается, таким образом, необходимым, с точки зрения принципа эгоизма, элементом счастья. Без нее человек не может реализовать себя как человек. Правда, Фейербах писал, что это становится очевидным далеко не сразу, и поэтому требуется большая просветительская работа, чтобы человек открыл в себе это свое определение. Тем не менее конфликты и борьбу он считал скорее отклонением от человеческой природы, следствием человеческого невежества, точно так же, как и религиозные суеверия. Литература1.Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1955. 2.Feuerbach L. Sammtliche Werke. Bd. 1 - 10. Stuttgart, 1903- 1911. 3.Быковский Б. Э. Людвиг Фейербах. М., 1967. 4.Элез Й. Проблемы бытия и мышления в философии Л. Фейербаха. М., 1974. 5.Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. 6.Nudling G. Ludwig Feuerbachs Religionsphilosohie. Paderborn, 1936. 7.Schilling W. Feuerbach und die Religion. Munchen, 1957 Глава 3. КЬЕРКЕГОР Сёрен Кьеркегор родился в Копенгагене в 1813 г. в семье богатого торговца шерстью. В возрасте 17 лет, в 1830 г., в соответствии с пожеланиями отца Кьеркегор начинает свое обучение на теологическом факультете Копенгагенского университета. Физически намного слабее своих сверстников, Кьеркегор выделялся на их фоне своими незаурядными интеллектуальными способностями. В 1840 г. он выдерживает экзамен по теологии, а в 1841 г. с успехом защищает магистерскую диссертацию «О понятии иронии с постоянной оглядкой на Сократа». Ирония и юмор, как две основные формы комического, играют далеко не случайную роль в учении Кьеркегора. К этим понятиям Кьеркегор возвращается и в последующих своих сочинениях. В 1841 г. он отправляется в свою первую поездку в Берлин, где посещает лекции Фридриха Шеллинга. Будучи открытым оппонентом Гегеля, Шеллинг критиковал последнего за недостаточное внимание к конкретному, за сведение всего к бесконечной цепочке переходящих друг в друга понятий. Критика Гегеля, к которому до этого времени Кьеркегор относился с большим почтением, была воспринята им очень живо и, несомненно, оказала влияние на эволюцию его философского мировоззрения, однако философию самого Шеллинга он воспринял без восторга и в целом скептически. Свою карьеру писателя Кьеркегор начинает как публицист, однако уже в 1843 г. он публикует сразу четыре самостоятельных произведения, двумя из которых — двухтомным трудом «Или-Или» (под псевдонимом Виктор Эремита) и книгой «Страх и трепет» (под псевдонимом Йоханнес де Силенцио) — были заложены основы экзистенциальной философии. Не менее плодотворным оказался и 1844 г., когда вышли в свет «Философские крохи» (под псевдонимом Иоханнес Климакус) и «Понятие страха» (под псевдонимом Вигилий Хауфниенсий). Насыщенное философскими идеями «Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»» выходит уже в 1846 г. Наконец, необходимо упомянуть книгу «Болезнь к смерти», опубликованную в 1852 г. под именем Анти-Климакус. Значительная часть трудов Кьеркегора, таким образом, была опубликована под псевдонимами, и поскольку ни для кого не было секретом, кто именно под ними скрывается, основной причиной подобной «таинственности» следует считать методологическую позицию философа, которую сам Кьеркегор называл «косвенным изложением». В то же время, ряд произведений, прежде всего на специальную религиозную тематику, Кьеркегор публикует под собственным именем, к примеру «Поучительные беседы различного толка» (1847) или «Христианские беседы» (1848). Однако для понимания особого стиля и метода философствования Кьеркегора особый интерес представляют три статьи, подписанные его настоящим именем. При жизни Кьеркегора была опубликована только одна, самая небольшая по объему — «Об авторстве моих работ» (1851). Две другие — «Единственный»: две «заметки» относительно авторства моих работ» и «Точка зрения на авторство моих работ» — были опубликованы посмертно в 1859 г. Ни одна из перечисленных работ, к сожалению, до сих пор не переведена на русский язык. Серен Кьеркегор скончался в 1855 г. в возрасте 42 лет. Труды Кьеркегора оказали значительное влияние не только на философию, но и на европейскую культуру в целом. Его идеями вдохновлялись М. Хайдеггер и К. Ясперс, М. Унамуно и К. Барт. Среди представителей русской философии следует назвать Н. А. Бердяева и Л. Шестова. Его художественный талант и тонкое чутье психолога высоко ценили Г. Ибсен и А. П. Чехов. Отношение к гегелевской философии и рационализму. В молодости Кьеркегор был страстным поклонником Гегеля. Следы юношеского восхищения маститым немецким профессором еще можно заметить в магистерской диссертации «О понятии иронии», хотя уже здесь набирает силу полемический тон. В дальнейшем расхождения становятся непримиримыми, а полемика перестает скрашиваться формулами вежливости, отдающими дань великому немецкому философу. Неприятие Кьеркегором гегелевской философии можно свести к двум основным моментам — неприятию абсолютного идеализма, включая диалектический метод, при помощи которого происходит разворачивание понятий, и неприятию философского истолкования религии. Что касается абсолютного идеализма, то Кьеркегор отстаивает первичность и полноту существования, которое подвергается неизбежному искажению со стороны абстрактного мышления в понятиях. Диалектическому моменту снятия Кьеркегор противопоставляет доведенное до крайности противоречие, освободить от которого человека способна лишь вера, но никак не философия. Поскольку поиски человеком самого себя означают поиски им утерянной связи с Богом, философия с самого начала оказывается неотделимой от религии и ей подчиненной. У Гегеля философия и религия тождественны по своему содержанию и различаются только по форме. Бог оказывается познаваемым, что ничуть не смущает Гегеля, и совершенно неприемлемо для Кьеркегора. Сокровенно-личная религиозность, конфликт общего и частного означают для Гегеля неразвитые формы сознания, а у Кьеркегора они становятся центральными вопросами, предметом анализа подлинной философии. Осуждаемая Гегелем «немудрствующая чистая религиозность», носителем которой является человеческая индивидуальность, становится для Кьеркегора искомой целью. В этом смысле философия для Кьеркегора только вторична: теоретическая философия недостаточна и чаще всего ошибочна, а подлинная философия — осуществленная Кьеркегором попытка совместить концептуальное изложение с литературным текстом — способна лишь сориентировать человека, помочь ему вступить на путь подлинного самопознания, путь веры. Вторым по значению европейским философом, с которым Кьеркегор ведет непрекращающийся спор, является Сократ. В своем дневнике за 1854 г. Кьеркегор запишет: «Вне христианства Сократ единственный в своем роде». Именно так, как к величайшему из людей во всем дохристианском мире, и относился Кьеркегор к Сократу. А потому шла ли речь об иронии или о сократовском понимании греха как неведения, Кьеркегор не столько упрекает, сколько оправдывает Сократа, который в своем бескомпромиссном служении истине сумел достичь тех границ, за которыми начинается христианская вера.Необходимо, наконец, сказать несколько слов об отношении Кьеркегора к Декарту, и прежде всего к его знаменитой формуле cogito ergo sum. С XVII в., с философии Декарта начинается новая эпоха в европейской философии — эпоха субъективности. Во времена Кьеркегора, вместе с кризисом рациональности эта эпоха подходит к концу, а Кьеркегор становится первым, кто открыто отказывается от понятия субъекта. На место субъекта приходит экзистенция. С точки зрения Кьеркегора, в выводе cogito ergo sum постулируется тождество мышления и бытия, однако это тождество никак не обосновывается и оказывается пустой тавтологией: мышление и есть единственный способ существования чистого субъекта. Если же под Я в cogito мы будем подразумевать единичного индивида, то и тогда ценность высказывания будет весьма сомнительной, поскольку мышление неотделимо от существования, а значит, ничего нового в заключение нам не сообщается. Основные положения и понятия философии Кьеркегора. Понятие «человек». Человек, согласно Кьеркегору, — это прежде всего человек существующий, экзистенция, соединяющая в себе вечное и временное, бесконечность и конечность. В «Заключительном ненаучном послесловии к «Философским крохам» Кьеркегор поясняет, что «человек как он есть в действительности, соединяющий в себе бесконечность и конечность, обладает своей действительностью именно постольку, поскольку бесконечным интересом к существованию удерживает в себе и то и другое». В самом начале первой главы «Болезни к смерти» приведенное определение дополняется новым конструктивным решением, напоминающим фихтеанский анализ сознания. Человек, по-прежнему, понимается как «синтез бесконечного и конечного, временного и вечного, свободы и необходимости», но теперь на первый план выдвигается отношение между противоположностями. Человеческое Я имеется тогда, когда указанное отношение относится к самому себе. Этико-религиозная направленность такого понимания Я становится очевидной, когда Кьеркегором выдвигается следующий постулат: совокупность отношений, из которых состоит человеческая самость, не является самостоятельной. Самополаганию отношения, — акту самосознания, когда «отношение относится к самому себе», — предшествует сила, которая его полагает. В итоге мы имеем в наличии три отношения — (1) отношение между противоположностями, (2) отношение к этому отношению, или человеческое Я, и (3) отношение к иному, или Богу. Экзистенциал «отчаянья». Определение «веры» через понятие «греха». Главной темой книги «Болезнь к смерти» является, конечно, не самопознание как таковое, а этическое самопознание, приводящее человека к Богу. «Смертельной болезнью» и одновременно отправной точкой для самосознания оказывается отчаянье. Как отмечал Л. Шестов, началом философии для Кьеркегора является не удивление, как учили греки, а отчаянье. Отчаянье представляет собой внутреннее несоответствие в синтезе, когда отношение относится к самому себе. Рассуждения Кьеркегора о неизбежности отчаянья можно было бы сопоставить с учением Шопенгауэра о страдании: как наша жизнь, хотим того или нет, пронизана страданием, так же каждый из нас несет в себе зерно отчаянья. Из структуры человеческого Я Кьеркегор выводит два вида настоящего отчаянья: желание избавиться от своего Я и страстное желание быть самим собой. Неподлинным или неистинным отчаяньем Кьеркегор называет такое отчаянье, когда человек не сознает своего Я. Именно поэтому Кьеркегор замечает, что «отчаяться в чем-то — это еще не настоящее отчаянье». Действительный предмет любого отчаянья — собственное Я человека. Итак, универсальность отчаянья не означает его однородность, напротив, отчаянье может избирать самые различные пути, обобщая которые мы получаем три формы, или вида, отчаянья: (1) отчаянье, когда человек не знает своего Я (неистинное отчаянье); (2) отчаянье, когда не желают быть собою; (3) отчаянье, когда желают быть собою. Кьеркегор требует от отчаявшегося идти до конца: осознавая свой грех, необходимо продолжать желать оставаться собой, и тогда мы обретем веру и в этой вере преодолеем свое отчаяние. Состояние, когда отчаянье полностью отступает, Кьеркегор описывает следующим образом: «в отношении к самому себе, желая быть собою, Я погружается посредством собственной ясной прозрачности в ту силу, которая его полагает» ( 1:350). В этой формуле мы находим кьеркегоровское понимание веры. Иное определение веры — через парадокс и абсурд — содержится в произведении «Страх и трепет», о котором речь пойдет чуть позже. Что касается понятия «греха», то Кьеркегор понимает под грехом «отчаяние перед Богом». Идея позитивности, изначально присутствующая в понятии греха, подытоживает концептуальные рассуждения Кьеркегора: «Грех подразумевает Я, поднятое к бесконечной мощи идеей Бога, а стало быть, подразумевает также максимальное осознание греха как действия. Именно это выражено в тезисе, что грех — это нечто положительное; его позитивность состоит как раз в том, чтобы быть перед Богом» ( 1: 350). Как мы видели, не всякое отчаянье приводит к вере. Спасение, обретение веры означает одновременно обретение самого себя. Тернистый путь к вере, однако, Кьеркегор описывает не только посредством экзистенциала отчаянья. Другим известным учением датского философа является учение о трех стадиях жизни, которое он наиболее полным образом излагает в «Или-Или», своем первом крупном — книга была опубликована в 2 томах общим объемом около 800 страниц — и первом опубликованном под псевдонимом произведении, вышедшем в свет в 1843 г., то есть на десятилетие раньше чем повествующее об отчаянье «Болезнь к смерти». Если быть точным, в «Или-Или» подробно освещены только две стадии — эстетическая и этическая, а описание религиозной стадии содержится в книгах «Страх и трепет» (1843) и «Стадии жизненного пути» (1845). Эстетическая стадия. На первой эстетической стадии человек находится в поиске удовольствия и наслаждения, не важно телесного или интеллектуального. Всегда неудовлетворенное желание постоянно меняет свой объект. Больше всего этой стадии соответствует тип романтика-индивидуалиста, а также Дон Жуан, находящийся в вечном поиске новых ощущений. Нерон, как ни странно, также приводится в пример Кьеркегором, поскольку и его основной мотив — жажда наслаждений. Эстетическое существование в действительности может принимать самые разнообразные формы, однако три характеристики остаются неизменными. Первая — это наслаждение. Вторая — это непосредственность, когда над своим душевным развитием, безразлично достигает ли оно каких-либо высот или граничит со скудоумием, человек не трудился, а лишь пользуется уже имеющимся как даром. Наконец, третья — это этическая индифферентность, т. е. безразличие к этической стороне происходящего. Этическая стадия и понятие «выбора». Вторую этическую стадию человеческого существования Кьеркегор связывает с выбором. Ее героями являются Агасфер и Сократ. Именно понятием выбора оправдывается жесткая постановка проблемы в названии книги — «Или-Или». Кьеркегор обращает внимание читателя на то, что речь идет не о простом выборе, когда предлагаемые варианты фактически эквивалентны, а об «абсолютом выборе». Если в человеке находит свой выход подлинная свобода воли, то «выбрать» человек способен только одно — самого себя как свободу, свое собственное Я, которое является центром этической жизни. Религиозная стадия. «Телеологическое устранение этического» и определение «веры» через понятие «абсурда». Итак, в работе «Или-Или» раскрывается, прежде всего, дилемма между эстетическим и этическим началом в человеке. «Страх и трепет» раскрывает суть религиозной стадии и заменяет «либо-либо» на «ни-ни»: чтобы вступить на путь веры человек должен отказаться не только от эстетических приоритетов, но и от этики со всеми ее максимами и универсальными постулатами. Вера стоит выше этики. Этику Кьеркегор определяет как «всеобщее», т. е. признает ее общечеловеческий и универсальный характер. И все же Кьеркегор отстаивает возможность «телеологического устранения этического»: более высокий ????? — вера — устраняет этическое, не разрушает, а именно устраняет, сохраняя в высшем. Центральным понятием для третьей религиозной стадии является вера. Вера в Бога — высшее, на что способен человек. Величайшее зло — безбожие. Но вера, согласно Кьеркегору, начинается там, где прекращается мышление, и если понимание, как производное мышления, отражает отношение человека к человеку, то вера выражает собой отношение человека к божественному. Таким образом, вера иррациональна, однако Кьеркегор находит понятия, помогающими приблизиться к ее сути. Речь идет о парадоксе и абсурде. Вера является «самым великим и самым трудным из всего возможного», поскольку для ее достижения требуется «заглянуть в глаза невозможности». Что же именно можно назвать невозможным, парадоксальным, абсурдным? Кьеркегор определяет веру как парадокс, согласно которому «единичный индивид в качестве единичного стоит выше всеобщего» (1: 54). Вера Авраама и тема молчания в философии Кьеркегора. Одной из важных для Кьеркегора тем является тема молчания, которая заслуживает внимания, поскольку является неотъемлемой частью учения, т. е. обоснована концептуально. Авраам молчит не потому, что боится нарушить покой своих близких, Исаака и Сарры, трагическим известием, и не потому, что желает, как это обычно происходит с трагическим героем, скрыть одному ему ведомую тайну, а потому что не может говорить или, иными словами, потому что ему нечего сказать. «Единичный индивид» молчит, поскольку у него отсутствует связь со всеобщим, поскольку его никто и никогда не поймет. Из этой «непонятности» для всех других следует сразу несколько важных выводов. Никто не может дать ему совета, в том числе и другой рыцарь веры, поскольку «когда другой индивид должен пройти тот же путь, он совершенно таким же образом должен стать единичным», а значит, и не нуждается ни в каких указаниях. Единичный индивид. Центральным понятием философии Кьеркегора является, несомненно, «единичный индивид» (Enkelte), a понятием, противостоящим ему, — «всеобщее». Необходимо иметь в виду, что «единичный индивид» представляет собой совершенно особое понятие, поскольку не имеет определения, не обладает никакими свойствами, кроме одного — быть индивидом, т. е. единственным, единичным. «Единичный индивид» Кьеркегора — это индивид, не просто стоящий выше всеобщего, но индивид, находящийся в абсолютном отношении к Абсолюту, т. е. нашедший Бога, вступивший на путь веры. Становление «единичного индивида», и это очень важно отметить, так как здесь пути философии жизни и даже экзистенциальной философии и философии Кьеркегора расходятся уже навсегда, есть становление посредством само-рефлексии, само-сознания. Мышление предваряет действие и отвечает за анализ его последствий, но к этому «до» и «после» человек должен каким-то образом прийти. Вспомним, что отчаянье, чтобы стать позитивным, т. е. открыть человеку путь к осознанию своей греховности, должно быть непременно сопряжено с рефлексией о самом себе: отчаянье должно осознавать себя, осознавать, что оно есть действие, и его напряженность возрастает вместе с возрастанием осознания Я. Человек ответствен за свой грех именно потому, что в его власти как сознательного существа грешить или не грешить. Однако философия Кьеркегора — это не только и столько философия индивидуальности, как ее многие пытаются представить. Ее главной целью является не возвеличивание индивида, а, как неоднократно подчеркивал сам Кьеркегор, — ответ на вопрос, что означает стать христианином. Понятия «единичного индивида», «повторения», «отчаянья», «страха» и многие другие не имеют самостоятельного значения, и экзистенциализм Кьеркегора не может быть охарактеризован иначе как именно христианский экзистенциализм. В то же время, то, каким образом датский философ пытается донести свои идеи до читателя, определяется его особым, нетрадиционным отношением к христианству и его догматам, а потому определить, что же все-таки преобладает в его мировоззрении — религиозность или экзистенциальная направленность, оказывается чрезвычайно сложно. Способ философствования: стиль и метод у Кьеркегора. Кьеркегор не стремится создать никакой системы и намеренно не соблюдает общепринятые нормы научного изложения: свой собственный стиль он называет «диалектической лирикой» (подзаголовок к работе «Страх и трепет») или заявляет, что предпочитает говорить «по-человечески», или, наконец, уверяет, что ему хотелось бы «считаться дилетантом, который, конечно же, занимается философской спекуляцией, но сам пребывает за пределами этой спекуляции». Очевидно, что в традиционном смысле творчество Кьеркегора не является философией, а относится скорее к разряду назидательной литературы, но столь же очевидно, что именно такой способ философствования, лишенный систематики и непосредственно граничащий с искусством, уже к началу ХХ века закрепил за собой право называться философией. Отвлекаясь от религиозной составляющей его творчества, попытаемся выявить то, что вынуждает Кьеркегора применять описанный выше новый способ философствования. Выше рассудка, выше рефлексии Кьеркегор ставит страсть. Стремление Кьеркегора заключается в том, чтобы повлиять на современников, изменить их, потому что ни их поведение, ни их самосознание его не устраивают. Ему не нравится, что «люди слишком мало верят в дух», что они «бездуховны», и он хочет, чтобы они «обрели мужество верить в могущество духа». Страсть, соответственно, понимается не как некая низшая бессознательная сила, управляющая нашими поступками, а как то, что составляет неотъемлемую часть духовности, т. е. страсть одухотворяется. Так, надежными он признает не заключения холодного рассудка, а заключения страсти, поскольку они есть единственно убеждающие. Более того, не разумопределяет подлинно человеческое, а страсть, высшим проявлением которой является вера. Заключения рассудка, а вместе с ними всякого рода спекуляции и вырастающие из них философские системы, оказываются неубедительными и главное недейственными, поскольку неспособны обеспечить как раз то, что они призваны обеспечить, а именно — переход от мысли к действию. Подлинное самосознание есть не созерцание, а действие, привести к которому способен не научный или, что то же самое, философский труд, а скорее проповедь, которая представляет собой не что иное, как «искусство убеждать». Кьеркегора можно назвать своим собственным биографом, и не только потому, что он оставил нам в наследие целые тома дневниковых записей, но и потому, что сама его жизнь (как творческая, так и личная) проблематизирует понятие авторства. Об этом говорит как постоянная и вполне продуманная игра с псевдонимами, так и желание соответствовать «описанным Я» в реальной жизни. К слову сказать, население Копенгагена, хотя он и был королевской столицей, составляло в те времена приблизительно 200 тысяч человек, то есть он был небольшим городом, в котором жизнь интеллектуальной элиты была, если можно так выразиться, у всех на виду. Этим не раз пользовался Кьеркегор. Так, во время написания «Или-или» Кьеркегор был так погружен в работу, что у него за целый день выдавалось только несколько свободных минут, которые он проводил, появляясь в театре на глазах у всей публики. Слухи, естественно, утверждали, что он только и делал, что посещал представления, но этого-то и добивался Кьеркегор — эффект был произведен. Известно также, что его единственной отрадой были ежедневные прогулки по Копенгагену, и что за ним закрепилась слава «шпиона», который все и обо всех знает. Но вернемся к теме авторства и к стремлению Кьеркегора всячески запутать читателя, но только не дать ему возможность приписывать все произведения одному автору. В самом деле, если бы он просто хотел скрыть свое имя, то мог бы пользоваться каким-то одним псевдонимом, но он их постоянно меняет: книга «Страх и трепет» была подписана Иоханнесом де Силенцио, «Повторение» — Константином Констанцием, «Понятие страха» — Виталием Хауфниенсием, «Философские крохи» — Иоханнесом Климакусом, а «Болезнь к смерти», последняя большая работа Кьеркегора, — Анти-Климакусом. Что это — безобидная игра, или за этим скрывается какой-то смысл? В действительности, у Кьеркегора был хорошо продуманный план. Такой вывод можно сделать на основании дневниковых записей и трех работ, посвященных непосредственно проблеме авторства, о которых мы упоминали при изложении биографии Кьеркегора. План заключался в следующем: философские произведения Кьеркегора публиковались под псевдонимами, но параллельно — т. е. с минимальным разрывом по дате публикации — выходили в свет его религиозные произведения. Первые, таким образом, представляли собой «косвенную форму изложения», а вторые, напротив, несли в себе прямое, непосредственное сообщение. Со всей строгостью данному плану Кьеркегор следовал в течение пяти лет — с 1843 по 1848 г. Казалось бы, это не такой большой срок, однако перечень опубликованных за этот период произведений является довольно внушительным. Преимущество «косвенной формы изложения» Кьеркегор видел в «отсутствии авторитета», что служило эффективным способом воздействия на читателя, вовлекая его, хотя и не сов, сем честным путем, в истину. Такой метод, кроме того, прекрасно подходилдля борьбы с разного рода иллюзиями. В качестве основных «мишеней» для закамуфлированной, иронической и косвенной критики Кьеркегор избрал веру в непогрешимость абсолютную истинность систематической философии гегелевского образца, а также ничем не обоснованную убежденность простого обывателя в том, что он является христианином, притом правоверным. Не надо забывать, однако, что план, разработанный Кьеркегором, был единым и в конечном счете и философские и религиозные труды преследовали одну общую цель — сообщить понимание того, что означает быть христианином. Кьеркегор не только следовал своему плану, но и не скрывал его, опасаясь, что иначе он будет неверно понят. Между тем избежать последнего ему не удалось. Ничуть не удивительным, однако вызывающим сожаление является тот факт, что литературно-философские труды Кьеркегора завоевали известную популярность, тогда как работы по религиозной тематике не вызвали особого интереса. Более того, многие были убеждены в том, что все дело в возрастных предпочтениях: в начале Кьеркегор писал эстетические по своему характеру произведения, а с возрастом стал более серьезным и перешел на нравоучения. Судя по дневниковым записям, Кьеркегор глубоко переживал такое явное непонимание, сводившее на нет его усилия. Псевдонимы Кьеркегора, следовательно, ни в коем случае не означают, что он хочет показаться тем, кем в действительности не является; они только не позволяют вынести об авторе окончательного суждения, т. е. подвести «индивида» под какое-либо понятие (будь-то «занимательный писатель» или «тонкий психолог») и, уже исходя из этого, оценивать все его творчество. Иными словами, «единичный индивид» остается самим собой только относительно себя, только он способен судить о самом себе, и манера Кьеркегора преподносить себя читателю представляет собой наглядный пример, иллюстрацию этого важного тезиса. Мы уже говорили о теме молчания в творчестве Кьеркегора. Сам Кьеркегор, конечно, не молчит (ему это и не нужно, поскольку, по собственному убеждению, он является лишь одним из нас, а не «рыцарем веры»), но его речь, пусть даже целиком и полностью искренняя, лишена непосредственности и доступности. Не обнаруживая себя, Кьеркегор, хочет, чтобы его убеждения стали убеждениями читателя. Этой цели служат в том числе юмор и ирония, так как увидеть юмористическую сторону происходящего может лишь тот, кто в этом происходящем не участвует, иначе говоря, тот, кто сумел дистанцироваться, взглянуть на все с иной точки зрения. Этому также служит многократное варьирование хорошо известных сюжетов, которое вовлекает читателя помимо его воли в мир бесконечных возможностей, в борхесовский «сад расходящихся тропок», где роль наблюдателя просто не предусмотрена — всякий входящий становится тотчас со-творцом или активным участником. Универсальные философские пропозиции указывают только на общее и бессильны выразить то, что отличает одного человека от другого, т. е. неуловимую субъективность нашего существования, и, следовательно, спекулятивная философия заканчивается там, где начинаются различия. Разоблачение спекулятивной философии не было для Кьеркегора самоцелью: он продолжает верить в существование абсолютной и единственной истины (т. е. того, что существует помимо языковой реальности), путь к которой должна указать его собственная философия. Поскольку такая истина не может заключаться во всеобщем, она должна быть обнаружена в человеческой субъективности. Истина заключена в Боге, но она раскрывается только через человека как «единичного индивида», через его личное (а значит субъективное) отношение к Богу, которое и называется «верой». Заключение: экзистенциализм Кьеркегора. В заключение скажем несколько слов об экзистенциализме Кьеркегора. Прежде всего, как уже было отмечено выше, Кьеркегор коренным образом переосмысливает центральное понятие любой философии, понятие истины. Если вся предшествующая философия полагала, что источником истины является разум, то датский философ осмеливается поднять вопрос о «непогрешимости человеческого разума» и заявить, что «истина есть субъективность». Его философия начинается не с удивления, и не потому, что в человеке заложена страсть к познанию, а с отчаянья (9: 429). Однако этого еще недостаточно, чтобы причислить Кьеркегора к экзистенциальным мыслителям; для этого необходимо, чтобы его философия была так или иначе сопряжена с понятием «существования». Схоластика, как известно, развивала в различных направлениях идею Аристотеля о различении сущности и существования, признавая сущность предшествующей существованию. Кьеркегор перевернул соотношение этих двух категорий, и существование стало предшествовать сущности. Предметом его философии становится «единичный индивид», или, как он его еще называет, «существующий мыслитель», «существующий индивид», т. е. неопредмеченная, избегающая всяких определений индивидуальность, в которой мышление и осуществление, осознание и поступок оказываются слитыми воедино. Но не только отношение сущности к существованию характеризует экзистенциальную философию. В таком случае и Фихте, и Шеллинга можно было бы также назвать экзистенциальными философами, так как истоком всего, началом бытия они считали «чистую деятельность», становление, в отношении которого сущность может быть только чем-то вторичным. Пауль Тиллих определяет экзистенциализм как «мышление, которое сознает конечность и трагедию всякого человеческого существования» (2: 454). Значит, другой важной чертой экзистенциального мышления является его трагичность. Страдание, по Кьеркегору, есть неизбежное и должное в человеческом существовании: только постигнув его суть и глубину, человек способен отыскать дорогу к спасению, восстановить утраченную гармонию. Экзистенциальное мышление, далее, это такое мышление, к определению которого следует отнести выход за собственные пределы. Именно так, в терминах экзистенциальной философии ХХ в., можно истолковать кьеркегоровское понимание существования. Не сила разума или, точнее, не интеллектуальные усилия — ведь вера, согласно Кьеркегору, доступна независимо от интеллектуальных достоинств человека, — а глубокие переживания выталкивают человека на уровень подлинного или действительного существования, за пределы его наличного бытия. Повторяя ранее высказанный тезис, Кьеркегор не отвергает мышления и рефлексии как таковых, а лишь отказывает в существовании «чистой мысли», которая своей абстрактностью подменяет естественную связь между мышлением и существованием, соединенными воедино в человеческой экзистенции. Литература1.Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. 2.Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Киев, 1994. 3.Кьеркегор С. Несчастнейший. М., 2002. 4.Кьеркегор С. Повторение: опыт экспериментальной психологии Константина Констанция / Пер. с дат. П. Ганзена, сверенный с оригиналом, испр., доп. и прокомментир. Д. Лунгиной. М., 1997. 5.Кьеркегор С. «Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»» / Пер. с дат. Д. Лунгиной // Логос. 1997. № 10 6.Роде П. П. Серен Кьеркегор, сам свидетельствующий о себе и своей жизни. Челябинск, 1998. 7.Доброхотов А. Л. Апология когито, или Проклятие Валаама. Критика Декарта в «Ненаучном послесловии» Кьеркегора // Логос. № 10. 1997 8.Мир Кьеркегора: Русские и датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора. М., 1994. 9.Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. М., 1992. Глава 4. ГЕГЕЛЬЯНСТВО Гегельянская философия проделала весьма сложную эволюцию в течение XIX — ХХ вв. Мало кто из последователей Гегеля был полностью согласен с философом, и в большинстве своем гегельянцы предпочитали самостоятельный путь мысли, вследствие чего мы не можем ставить знак равенства между философией Гегеля и гегельянством. Исключение составляет так называемая гегелевская школа, возникшая еще при жизни философа, куда входили преимущественно его ученики и друзья, пытавшиеся создать ортодоксальный образ гегелевской философии. Именно благодаря их усилиям вскоре после смерти Гегеля было издано собрание его трудов, так называемое «издание друзей» (1832— 1840), включавшее как работы опубликованные при жизни, так и записи его лекционных курсов. Гегелевская философия предстала в виде завершенной и всеохватной системы абсолютного идеализма. Стремление сохранить во всей полноте и неприкосновенности наследие учителя и закрепить те позиции, которые гегелевская философия занимала при жизни своего основателя, привело Габлера, Гешеля, Хинрикса, Дауба, так называемых правых гегельянцев, к более консервативным позициям в области религии и политики, чем было свойственно гегелевской мысли изначально. Это вызвало ответную реакцию со стороны левых гегельянцев, или младогегельянцев, молодых немецких мыслителей, стремившихся, наоборот, придать гегелевской философии критический и даже революционный смысл (Штраус, Бауэр, Штирнер). С их точки зрения, гегелевская философия позволяла критически мыслящему индивиду отстаивать свободу личности в борьбе против угнетающих человека религии и государства. Близкие к младогегельянцам позиции занимал Л. Фейербах (см. главу Фейербах). Деятельность младогегельянцев вызвала раскол среди сторонников Гегеля и создала образ гегелевской системы как внутренне противоречивого учения. Наиболее значительный критический удар по гегелевской системе был нанесен учением Маркса (см. главу Марксизм), обратившим диалектический метод против самого Гегеля, за что его иногда заслуженно называют «лучшим гегельянцем». Это приводит к тому, что к середине XIX в. гегелевская философия постепенно теряет свои позиции, уступая место шеллингианству и кантианству. Тем не менее и в дальнейшем последователей гегелевской мысли мы находим практически во всех ведущих «философских» странах Европы. Наряду с Кантом Гегель становится одним из самых влиятельных немецких философов, а его учение становится классикой философской мысли, вдохновившей немало философов на создание собственных оригинальных концепций. Самым выдающимся сторонником абсолютного идеализма в Великобритании можно считать Фрэнсиса Брэдли, в США крупнейшим абсолютным идеалистом был Джосайя Ройс, во Франции одним из самых оригинальных и влиятельных толкователей Гегеля считается Александр Кожев. Учения этих мыслителей мы рассмотрим в данной главе. Фрэнсис Герберт Брэдли родился в 1846 г. в пригороде Лондона в семье евангелического священника. После окончания Оксфордского университета в 1870 г. Брэдли стал научным сотрудником оксфордского колледжа Мертон. Известность принесла ему первая крупная работа по этическим проблемам «Этические исследования» (1876), где он изложил свои взгляды на мораль в полемике с другими этическими позициями. В этой работе отчетливо просматривается влияние гегелевской мысли. Философ отстаивает подход к морали с позиции социального целого в противовес утилитаризму, индивидуализму и кантовскому формализму. Главным трудом Брэдли является объемное сочинение под заглавием «Явление и реальность» (1893), где он представил в развернутом виде позицию абсолютного идеализма. Умер Брэдли в 1924 г. Метафизика, по Брэдли, это «попытка познать реальность в ее отличии от явления», это «исследование первых принципов или абсолютных истин», а также «стремление постичь Вселенную в целом, а не фрагментарным и ограниченным образом» (7: 1). Ограниченность нашего познания не может считаться абсолютным препятствием, а только относительным, поскольку наше знание включает и знание об этой ограниченности. Брэдли изначально отвергает позиции агностицизма и скептицизма в философии, его убеждение в абсолютном характере человеческого познания ориентирует его сразу же в направлении классического философского идеализма. Однако в отличие от Гегеля главным средством постижения Абсолюта у Брэдли становится не логика, а метафизика, базирующаяся на опыте. Логика — это всего лишь один из способов, на котором строится наше познание, но логика не может претендовать на роль окончательного и единственного критерия абсолютных истин. На эту роль, по мнению Брэдли, в полном соответствии с британской эмпирической традицией в большей степени подходит опыт. Однако этот опыт должен соответствовать, характеру абсолютной реальности и быть полным, всеохватным, целостным опытом, соединяющим в своей фундаментальности обыкновенное познание с познанием метафизическим. Опыт — фундамент познания. Он в своей основе имеет непосредственное чувство, присутствующее еще до разделения на субъект и объект, на вещи и качества. Только такой опыт, объединяющий познание в целом, может поднять познание до той абсолютной реальности, которая задает для Брэдли цель и единство всего нашего познания. Таким образом, основами метафизики у него оказываются: с одной стороны, представление о реальности самой по себе, носящей абсолютный характер, с другой стороны, первенство в познании такого же абсолютного опыта. Сталкиваясь с традиционной дилеммой идеализма и реализма, Брэдли делает однозначный выбор в пользу идеализма. Реальность представляет собой нечто родственное идеям, сознанию, духу, утверждается совершенно определенно тождество истинного знания и реальности. Идеализм должен носить не только абсолютный, но и критический характер. Этот критический характер собственной метафизики Брэдли основывает на фундаментальном, с его точки зрения, разделении между явлением и реальностью. Критериями, отвечающими, по мысли Брэдли, абсолютной реальности являются непосредственность, всеохватность, цельность, непротиворечивость. «Абсолютная реальность такова, что она не противоречит себе» (7: 120). Это целое не предполагает внутренних противоречий и внешних отношений. Для Абсолюта все отношения являются внутренними и несущественными, а все противоречия заранее снятыми. Им предпринимается критика основных философских категорий прежней метафизики: субстанция, качество, отношение, вещь, пространство и время, движение и изменение, активность и причинность, субъективность и объективность — все они обнаруживают свою внутреннюю противоречивость и все должны быть отнесены к уровню познания явления, но никак не абсолютной реальности. Концепция личности также должна быть отнесена к уровню явления. Однако тем не менее Брэдли утверждает, что «каждая душа существует на некоем уровне, где нет разделения на субъективное и объективное, на Я и предмет в каком-либо смысле» (7: 89). Окончательный вывод Брэдли таков: «Личность представляет собой, без сомнения, высшую форму опыта, которой мы обладаем, но даже с учетом этого она не является истинной формой. Она не дает нам факты так, как они есть в реальности, а то, как она дает нам факты, представляет собой лишь явление и ошибочно» (7:119). При всей подвижности границы между субъективным и объективным, внешним и внутренним мы всегда имеем некоторый остаток, как выражается Брэдли. «Главное заключается в нашей способности чувствовать различие между ощущаемой нами собственной личностью и предметом» (7: 93). Это создает в нас «идею неустранимого остатка», несводимого ни к субъекту, ни к объекту (7: 93). Таким образом, понятие личности подводит Брэдли к той самой грани, которая отделяет в его собственной концепции реальность и явление. Личность как то, что реально существует, как, подчеркнем, и сама совокупность явлений в целом, так или иначе «принадлежит реальности» (7: 104). Позиция Брэдли состоит в том, что реальность содержит в себе и себя, и явление. «Явления существуют. Даже если мы объявляем некий факт явлением, у него нет иной возможности существовать кроме как в реальности. А реальность, взятая лишь с одной стороны или в отрыве от явления, обратилась бы в ничто» (7: 132). Второй принципиальной составляющей концепции Брэдли становится опыт. Отказ от чисто рационалистических рассуждений и предпочтение опытного познания обнаруживает в Брэдли представителя британской философской традиции. Опыт Брэдли понимает в первую очередь через соотношение с Абсолютом. Опыт есть то, что соединяет в себе познание и реальность и образует то пространство, где разрешаются противоречия конечного существования и познания явлений. «Бытие и реальность находятся в неразрывном единстве с чувствительностью» (7; 146). «Сам Абсолют есть единая система и ... его содержание представляет собой не что иное, как чувственный опыт. Это единый и всеохватный опыт, который содержит в согласии все обособленные части» (7: 146 — 7). При такой трактовке опыта Брэдли вынужден характеризовать его как прежде всего «интуитивный опыт» (7: 278), где сливаются воедино идеи и факты. Брэдли настаивает, что «опыт заранее находится в обоих мирах и в единстве с реальностью» (7: 525), однако это не позволяет ему преодолеть собственное фундаментальное разделение между Абсолютом и явлением и заставляет, отворачиваясь от Абсолюта, более подробно обращаться к противоречиям процесса познания, с тем чтобы сблизить процесс познания с абсолютной реальностью. Прибегая к классической формуле эмпиризма, Брэдли подчеркивает, что «нет ничего в мысли, будь то материя или отношения, помимо тех, которыепроистекают из восприятия» (7: 380). Представление о существовании без мышления так же односторонне, как и мышление, оторванное от реальности. Однако любые факты, касающиеся физического и психического миров, являются нам исключительно «в форме мыслей» (7: 383). «Вне нашего конечного опыта не существует ни естественного мира природы, ни вообще какого-либо иного мира» (7: 379). Поэтому в качестве критерия истины Брэдли избирает не соответствие реальности вне познания, а реальность самого познания, которую он определяет как «годность» (validity). «Любая истина, которая не может продемонстрировать, как она работает, является по большей части неистинной» (7: 400). Вместе с тем Брэдли-метафизик подчеркивает, что этот критерий годности не ограничивается простым представлением познания как набора «работающих средств познания» безотносительно их связи с реальностью самой по себе. Каждый шаг нашего познания заключает в себе нечто от «характера абсолютной реальности» (7: 362). Мысль должна не только опираться на опытный материал реальности, но и преодолевать его, преодолевая тем самым и себя, и свою собственную ограниченность. Таким образом, позитивный критерий науки (годность) дополняется у Брэдли еще и метафизическим критерием, ориентирующим познание на проникновение вглубь реальности. Таким образом, процесс познания представлен Брэдли как компромисс между эмпирическим, конкретно-научным познанием и познанием метафизическим. Метафизика Абсолюта призвана соединять в единое целое процесс познания и ориентировать его на все более глубокое проникновение в абсолютную реальность. Джосайя Ройс родился в 1855 г. в городе Грасс-Вэлли в Калифорнии. С 1871 по 1875 г. он учился в Калифорнийском университете в Беркли, затем в течение года учился в Германии, слушал лекции Виндельбанда и Лотце. По возвращении в Америку Ройс получил в 1878 г. степень доктора философии. С 1882 г. и до самой смерти в 1914 г. Ройс работал на философском факультете Гарвардского университета. Ройс в течение всей жизни был решительным сторонником идеализма, основными ориентирами для философии он признавал Платона, Аристотеля, Канта и Гегеля. При этом он остро чувствовал необходимость модернизации философского идеализма с учетом новейших перемен в мировоззрении и науке западной цивилизации, изменений в области морального и религиозного сознания, образа жизни современных ему людей. Ройс считает, что в современных условиях идеализму необходимо придать новую форму. Гегелевская логика представляется ему слишком формальной и технической дисциплиной, неспособной вернуть философии ведущие позиции в культуре в целом. Ройс в большей степени привержен общему духу идеализма, а не самой «букве» гегелевской философии. «Единственная доказательная истина философии в собственном смысле лежит в области конструирования опыта в целом, настолько насколько это конструирование опыта не может быть подвергнуто отрицанию без противоречия. Мы философствуем тогда, когда пытаемся выяснить, что же собой представляет опыт в целом и каково его значение» (8: 1, XVIII). Как видно, Ройс стремится соединить научное опытное познание с философской методологией. Философ стремится связать интеллектуальную деятельность человека и объективную реальность, вводя практический, волевой моменты в познание. Объектом идеи выступает некая реальность, связь с которой определяется собственной практической направленностью идеи. Идея приобретает свой объект только при практическом исполнении, осуществлении того намерения, которое было заложено в данной идее. Более того, это намерение или цель идеи определяется ею самой. «Идея истинна, если обладает такого рода соответствием объекту, которым сама идея хочет обладать» (8: 1, 306). Ройс даже еще более категорично говорит о самоопределении идеи: «Сама идея решает за себя свое собственное значение» (8: 1, 310). Идея есть развитие и осуществление ее собственного внутреннего значения или определения, и в нем заключено единственное «иное» идеи, в котором она нуждается. В поисках места для этого иного Ройс опять вынужден возвращаться в область опыта. И здесь уже активно используется понятие жизни, полноты опыта в деятельности личности, которые призваны окончательно соединить между собой теоретический и практический аспекты деятельности человека. Реальность «конструктивного идеализма» характеризуется Ройсом как «окончательное и полное воплощение в индивидуальной форме и итоговом осуществлении внутреннего значения наших конечных идей» (8: 1, 339). Другими словами, реальность — это «идея, конкретно воплощенная в жизни» (8: 1, 359). Мир в целом это не абсолютная идея, а индивидуальный факт и одновременно представляет собой индивидуальный Абсолют. Сам Абсолют необходимо имеет форму личности, поскольку таким образом определяющим в отношениях человека и Абсолюта оказывается конкретный опыт познания. В этом абсолютном опыте все испытывается двойным образом: как опыт личности и как опыт самого Абсолюта. «Абсолютная самость (Я) прежде всего для того, чтобы быть Самостью, должна выражать себя в бесконечных сериях индивидуальных актов, так что она выражает себя как Индивидуум и включает в себя индивидуальные элементы» (8: 1, 588). Эти выводы заставляют концепцию Ройса колебаться на грани абсолютного идеализма и персонализма. Александр Кожев (Кожевников) родился в Москве в 1902 г. В возрасте 18 лет выехал из Советской России для учебы в Германии (Гейдельберге и Берлине). Получил звание доктора в 1926 г., а в 1930 г. стал преподавать в Высшей практической школе в Париже. Его лекции по философии Гегеля, которые он читал в течение 1933 — 1939 гг., пользовались огромным успехом, их посещали такие известные впоследствии мыслители как Ж.-П. Сартр, Р. Арон, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, А. Койре. Скончался Кожев в 1968 г. в Брюсселе, войдя в историю философии как один из самых оригинальных, хотя и во многом спорных толкователей гегелевской мысли, попытавшихся сделать гегелевскую мысль созвучной ХХ столетию. В своей трактовке Гегеля Кожев привлек наиболее популярные для того времени концепции Хайдеггера, Гуссерля, марксизма. В свою очередь, кожевская интерпретация Гегеля оказала значительное влияние на последующую французскую философию: экзистенциализм Сартра, психоанализ Лакана, феноменологию Мерло-Понти. Надо подчеркнуть, что Кожев избирательным образом относится к гегелевской позиции по многим вопросам, что зачастую приводит к огрублению взглядов Гегеля. Весьма сложный вопрос о методе философии Гегеля Кожев решает также односторонне, отбрасывая диалектику как метод, он утверждает, что позиция философа, позволяющая, по Гегелю, предмету самому развертывать свою истину, означает тождественность методов Гегеля и гуссерлевской феноменологии, что предполагает со стороны философа созерцание и простое описание. Самое серьезное искажение вносится им в гегелевскую философию при утверждении, что основным предметом гегелевских философских построений является человек и что, следовательно, его философия в целом должна рассматриваться как антропология. Одновременно этот антропологический подход у Кожева совпадает с экзистенциальным: он предпочитает «чтение Гегеля в антропологическом или экзистенциальном ключе» (3: 382). Экзистенциальность гегелевской феноменологии, по Кожеву, состоит в первую очередь в упоре на конечности и смертности человека, которые проистекают из природной ограниченности человеческого существования, и в этом смысле природа вообще представляет собой ограничение для человеческой жизни, для человеческого стремления и желания. Это негативное отношение к природе выражено в фундаментальном свойстве сознания, предполагающего бесконечное стремление к преодолению противоречия и реализации своих желаний как в действии, так и в мышлении. По сути, сам человек и есть эта абсолютная гегелевская негативность. «Для Гегеля не существует «человеческой природы»: человек есть то, что он делает; он сам себя сотворяет посредством действования» (3: 108). «Человек, действительное присутствие ничто в бытии (время), есть действие, то есть борьба и труд, — и ничто другое. Его непосредственную первоначальную сущность, которая есть также его цель, составляет вожделение, порождающее действие, и значит — разрушение, отрицание наличного бытия» (3: ПО). Действие и мышление идут рука об руку в человеческой судьбе и составляют материал человеческой истории. Вторая составляющая кожевского подхода — историческая: он высказывает убеждение, что феноменологию необходимо понимать в связи с историческими событиями, современными Гегелю, и в целом с историческим измерением человека. В истории человек противостоит уже не природе, а другому человеку, и в первую очередь самосознание добивается от другого признания, как говорится в гегелевском фрагменте из «Феноменологии» о диалектике раба и господина. Историческое движение человечества сопровождается выработкой различных духовных позиций со стороны личности и созданием разного рода общественных объединений, в которых человек реализует себя. Однако все они, как демонстрирует нам Гегель своей феноменологией, являются не чем иным, как идеологиями, то есть ограниченными и преходящими формами выражения человеческой деятельности. Для самого человека в его истории идеология обнаруживается тогда, когда человек убеждается, что все его окружающее есть его собственное творение. Это открытие влечет в первую очередь неизбежный исторический кризис религиозных представлений. Христианская религия как творение человека рано или поздно должна разоблачить себя и обернуться своей противоположностью — атеизмом. Здесь мы сталкиваемся со значительным упрощением гегелевской позиции в отношении религии. Кожев уверен, что сам Гегель отвергает мысль о потустороннем Боге. И для него это означает, что гегелевская философия стоит на позициях атеизма или, с оговорками, на позиции «антропотеизма». «Антропотеизм Гегеля вырастает из христианской смерти Бога» (3: 375 — 6). Уже христианство сблизило представление о Боге с человеком, но не пошло дальше утверждения смерти Бога в Иисусе Христе. Христианское представление о всеобщей любви является, по Кожеву, идеалом взаимного признания людей друг другом, перенесенное религией в потусторонний мир, точно так же, как идеальная община получила свое несовершенное воплощение в церковной организации. Дальнейшая борьба человека за признание и реализация в полной мере человеческого самосознания предполагали неизбежную борьбу в масштабах всего общества, что и выразилось в событиях французской революции и в ее завершении в наполеоновской империи. Империя Наполеона утвердила человека в качестве гражданина, как выражается Кожев, «совершенного и однородного» государства, где исчезли все различия и каждый получил возможность достичь удовлетворения в своей деятельности, поскольку она теперь изначально соединяла в себе Борьбу и Труд, господина и раба. Тем самым самосознание человека могло считаться полностью удовлетворенным. Гегелевской концепции «конца истории» Кожев придал конкретно-исторический вид, поскольку, по его мнению, «конец истории» мог наблюдать сам Гегель, будучи современником наполеоновского государства. В нем была достигнута конечная цель исторической борьбы человека за признание, и в гражданине наполеоновского государства соединились в своей полноте две стороны человеческого существования: мышление и действие. Деятель Наполеон и мыслитель Гегель завершают собой историческое развитие человечества. Конец истории и конец философии совпадают, предоставляя теперь возможность каждому достичь полного постижения действительности и полного признания от окружающих. Поэтому в универсальном и однородном государстве не существует конфликтов между людьми, но при этом «все — снобы». Литература1.Бауэр Б. Трубный глас страшного суда над Гегелем. М., 1933. 2.Брэдли Ф. Г. Что есть реальный Юлий Цезарь // Вестник МГУ. Сер. Философия. 1989. № 5. 3.Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. 4.Штирнер М. Единственный и его собственность. СПб., 2001. 5.Штраус Д. Старая и новая вера. СПб, 1906. 6.Bradley F. H. Ethical Studies. N.Y., 1951. 7.Bradley F. Appearance and Reality. L., 1925. 8.Royce J. The World and The individual. V. 1 -2. N.Y., 1900- 1901. 9.Богомолов А. С. Английская буржуазная философия ХХ века. М., 1973. 10.Богомолов А. С. Буржуазная философия США ХХ века. М., 1974. 11.Кузнецов В. Н. Французское неогегельянство. М., 1982. 12.Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощаются с модерном: Пер.с нем. М., 2000. 13.Cooper В. The End of History. An Essay on Modern Hegelianism. Toronto, 1984. 14.Moog W. Hegel und die Hegeische Schule. Munchen, 1930. Глава 5. МАРКСИЗМ В философской и общественной мысли XIX — ХХ вв. особое и значительное место занимает концепция, созданная в середине XIX в. Карлом Марксом и развитая впоследствии многими другими теоретиками-марксистами. Благодаря тому, что положения марксизма послужили идеологической платформой коммунистического движения и многих революционных выступлений по всему миру, самыми значительными из которых являются, несомненно, Октябрьская революция 1917 г. в России, приведшая к власти партию большевиков во главе с Лениным, и китайская революция 1949 г., совершенная китайской компартией под руководством Мао Цзедуна, марксизм в своих различных вариантах самым серьезным образом повлиял на исторические судьбы многих стран, однако с распадом СССР это влияние неуклонно сокращается. В теоретическом плане тем не менее марксизм был и остается одной из ведущих социальных концепций, во многом определившей облик современной науки об обществе. В истории философии марксизм выступает в качестве наследника и одновременно антипода идеализма Гегеля, перевернувшего гегелевскую мысль «с головы на ноги», т. е. придавшего философии критическую социальную направленность и превратившего теоретическую критику в орудие, служащее целям революционных социальных преобразований. Карл Генрих Маркс родился в 1818 г. в Трире в семье прусского юриста еврейского происхождения. Одно время он учился в Боннском университете, затем с 1836 г. продолжил учебу в Берлине, а степень доктора философии получил заочно в Йенском университете в 1841 г. Его политические взгляды не позволили ему преподавать в университете, и свою творческую деятельность он начал в качестве сотрудника ряда периодических изданий радикально левого толка, публикуя статьи с непримиримо жесткой критикой общественных и духовных устоев Германии. Благодаря совместному сотрудничеству в «Немецко-французском ежегоднике» Маркс познакомился с Фридрихом Энгельсом (родился в 1820 г. в Бармене), сыном текстильного фабриканта, интересовавшимся проблемами рабочего движения, политической экономии и социологии и ставшим его ближайшим другом и соратником. Некоторые из ранних работ написаны ими совместно («Святое семейство, или Критика критической критики» (1845), «Немецкая идеология» (1845— 1846, впервые издана в 1932 г. в России). С 1843 г. Маркс находится в эмиграции, сначала в Париже, потом в Брюсселе, а с 1849 г. он обосновался в Лондоне. В течение всей жизни Маркс и Энгельс были активнейшими участниками коммунистического рабочего движения, Энгельс даже участвовал в вооруженном восстаниирабочих на юге Германии. Маркс и Энгельс принимали самое непосредственное участие как в теоретическом плане (будучи авторами знаменитого «Манифеста коммунистической партии» (1848), теоретической платформы союза коммунистов), так и в организационном отношении в создании 1-го Интернационала, Международного союза рабочих (1864) и активно участвовали в его работе вплоть до его распада в 1873 г., а затем продолжили сотрудничество с германской социал-демократической партией. На становление Маркса как мыслителя определяющее влияние оказала философия Гегеля, категорическим противником которой он всегда являлся, но именно противостояние Гегелю и фундаментальная критика гегелевской философии, предпринятая Марксом, привели к созданию его собственной философской концепции. Разрыв с философским мышлением, представленным гегелевским идеализмом, был настолько решителен, что Маркс счел необходимым вообще отказаться от традиционной формы философской теории и сосредоточился на создании так называемого «материалистического понимания истории» — всеохватной критической общественной науки, базирующейся на критике политической экономии. Поэтому в зрелый период творчества он посвящает все свои усилия созданию фундаментального произведения под названием «Капитал. Критика политической экономии» (1-й том вышел в 1867 г., последующие два тома были изданы посмертно под редакцией Энгельса в 80-х —90-х гг.). Углубленные научные занятия стали возможны для Маркса благодаря материальной поддержке друзей, в первую очередь Энгельса. В 70-е — 80-е гг. Энгельс работает над созданием ряда произведений, в которых стремится придать марксистской теории форму единой философской концепции, охватывающей все сферы науки: методологию, естествознание, обществознание, это «Анти-Дюринг» (1876—1878) и «Диалектика природы» (незакончена, впервые издана в 1925 г. в России). Благодаря Энгельсу марксистская теория приобрела вид системы состоящей из трех основных частей: диалектического материализма, исторического материализма и научного социализма. В связи с этим следует отметить, что общий облик марксистской теории, получившей свое название от имени ее создателя — Маркса, многим обязан трудам Энгельса и других марксистов, что требует от исследователя проводить четкое различие между взглядами не только последующих разнообразных теоретиков марксизма, но и между взглядами самих его основателей, ни в коем случае не отождествляя их. Маркс умер в 1883 г. в Лондоне, оставив свой главный труд незавершенным. Энгельс пережил его на 12 лет. Из последних работ Энгельса стоит упомянуть «Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана» (1884), посвященную проблемам изучения древних обществ, и «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886). Молодой Маркс. Из работ молодого Маркса в философском отношении наибольший интерес представляют так называемые «Экономическо-философские рукописи 1844 года» (впервые изданы в России в 1932 г.). В них содержится ряд положений, раскрывающих сложные отношения мысли Маркса к Гегелю и Фейербаху и показывающих непростой путь, проделанный молодым мыслителем. В «Рукописях» Маркс предстает как ярый сторонник атеистического гуманизма, выступающий за освобождение человека не только от религии, но и от всех других видов отчуждения человеческой сущности — в труде, в политике, — противостоящих самому человеку. В этом он солидаризируется с Фейербахом и полностью поддерживает его критику гегелевского идеализма. Однако Маркс считает необходимым продолжить и усилить критику философии, начатую Фейербахом. Фейербах доказал, что «философия есть не что иное, как выраженная в мыслях и логически систематизированная религия, не что иное, как другая форма, другой способ существования отчуждения человеческой сущности, и что, следовательно, она также подлежит осуждению», поэтому ход мысли самого Маркса таков: от осуждения религии, что представляется ему чем-то само собой разумеющимся, нужно перейти к осуждению философии на тех же самых основаниях. Маркс усматривает существенную слабость фейербаховской критики прежде всего в том, что положительным основанием для критики у Фейербаха служит представление о человеке как чувственном, природном существе. В этом заключается ограниченность самого философского метода Фейербаха, исходящего из человека как непосредственной данности. «Отрицанию отрицания, утверждающему, что оно есть абсолютно положительное» он противопоставил «покоящееся на самом себе и основывающееся положительно на самом себе положительное» (1: 42, 154), т. е. гегелевская критика форм сознания, проделанная им в «Феноменологии духа» и строящаяся на методе двойной рефлексии или двойного отрицания (см. главу о Гегеле), у Фейербаха заменяется критикой с позиции гуманизма, заранее исходящего из человека как данного, и данного непосредственно чувственным образом. В этой двойной непосредственности Маркс совершенно справедливо усматривает слабость позиции Фейербаха по сравнению с Гегелем. Выступая вместе с Фейербахом против Гегеля, Маркс тем не менее не забывает и о сильной стороне гегелевской философии, прежде всего о его методе отрицания отрицания, которому он хочет придать исключительно критическую направленность. Поэтому в гегелевском мышлении его не устраивает в первую очередь то, что гегелевская феноменологическая критика подводит все формы сознания к их единству в философии и в итоге тем самым утверждает все наличные формы духа в рамках философской формы духа. Его также не устраивает то, что философия принимает у Гегеля вид тотальной деятельности абсолютного духа, подчиняющего себе все формы духа, в том числе и индивидуальное человеческое сознание. Свой протест Маркс выражает в виде утверждения позиции гуманизма, близкого фейербаховскому, однако стремящегося представить человеческую сущность чем-то опосредованной, в рукописях 1844 г. с этой целью Марксом используется понятие природы и отношение человека к природе посредством труда. Поэтому, хотя там Маркс говорит о человеке, это отнюдь не фейербаховский, непосредственный и чувственный человек, а человек, рассмотренный с позиции опосредованности человеческого бытия отношением к природе. Исходя из своей антропологической установки, Маркс критикует Гегеля за замену человека самосознанием человека и за то, что рассмотрение противоречий сознания в рамках феноменологии духа в аспекте самосознания или единства сознания превращает их всех в «сущности» «в мысленной форме», «мысленные сущности» (1: 42, 156). По Марксу, Гегель просмотрел отчуждение человека от противоположной ему и, как следствие, бесчеловечной предметности окружающей действительности. Поэтому в рамках философии Гегеля отчуждение человеческой сущности столько же снимается, сколько и утверждается: «Поскольку самосознательный человек познал как самоотчуждение и снял духовный мир — или всеобщее духовное бытие своего мира, — он все же снова утверждает его в этом отчужденном виде, выдает его за свое истинное бытие, восстанавливает его, уверяет, что он в своем инобытии как таковом находится у самого себя» (1: 42, 166). В противоположность укоренению человеческого бытия в абсолютном духе у Гегеля Маркс выдвигает понятие человека в связи с природой. Человек есть нечто, входящее в природу, «предметное, природное существо», а отнюдь не чисто духовное существо. Именно это обращение к природе не дает Марксу окончательно утвердиться на своей позиции, поскольку заставляет признавать некие естественные основы человеческого бытия и тем самым устанавливает пределы для критики. Поэтому дальнейшее развитие марксовской мысли будет заключаться в том, что он еще более плотным образом вступит в противоборство с гегелевской философией с тем, чтобы, воспользовавшись гегелевской идеей абсолютного опосредования в духе, перевернуть гегелевский метод и придать ему еще большую критическую направленность за счет обращения его против гегелевского понятия духа, отталкиваясь от абсолютной опосредованности общественной реальности. Этот решающий поворот произойдет в работах «Тезисы о Фейербахе» (1845) и «Немецкая идеология» (1845— 1846). Материалистическое понимание истории. Критический переворот совершенный Марксом в отношении гегелевской философии заключался в следующем. Маркс воспользовался гегелевской идеей субстанции-субъекта, однако представил ее не в виде тотальной деятельности абсолютного духа, а как критическую практику, чистую субъективную деятельность, включающую в себя предмет деятельности, субстанцию в ходе самой деятельности, и таким образом как снимающую, так и одновременно восстанавливающую разрыв между сознанием и предметностью. В самом первом и самом важном из «Тезисов о Фейербахе» Маркс подчеркивает именно этот момент своего понимания практики, выходящий за рамки традиционных противопоставлений субъекта, или деятельности, предмету, или субстанции: «Главный недостаток всего предшествующего материализма... заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как чувственно-человеческая деятельность, практика, не субъективно» (1: 42, 261). Создав свой аналог гегелевской субстанции-субъекта в виде общественно-исторической практики человечества, Маркс уже относительно него разрешает все прежние философские проблемы с позиции так называемого «материалистического понимания истории». Проблема природы и проблема истинного познания предмета мышлением переводится тезисом № 2 из чисто философской в практическую плоскость: «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, — вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен человек доказать истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления» (1: 42, 261). Это «материалистическое понимание истории» перебрасывает отношение к природе внутрь субъекта, т. е. представляет его уже исключительно опосредованным деятельностью общества. В свою очередь, все вопросы, связанные с абстракцией природы, снимаются: «вопрос отпадает сам собой, если учесть, что пресловутое «единство человека с природой» всегда имело место в промышленности, видоизменяясь в каждую эпоху в зависимости от большего или меньшего развития промышленности, точно так же, как и «борьба» человека с природой, приводящая к развитию его производительных сил на соответствующем базисе» (3: 2, 23), «окружающий чувственный мир вовсе не есть некая непосредственно от века данная, всегда равная себе вещь, а что он естьпродукт промышленности и общественного состояния, притом в том смысле, что это — исторический продукт, результат деятельности целого ряда поколений» (3: 2, 23). В том же духе в «Немецкой идеологии» концепция сознания изначально связывается с общественной деятельностью человека: «Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни» (3: 2, 20). «Сознание, следовательно, уже с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди» (3: 2, 27). Концепции человека и общества соединяются в единой перспективе в тезисе № 3: «Материалистическое учение об изменении обстоятельств и воспитании забывает, что обстоятельства изменяются людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно вынуждено поэтому делить общество на две части — из которых одна возвышается над обществом. Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности, или самоизменения, может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика» (1: 42, 262). Подобные же утверждения мы находим и в «Немецкой идеологии»: «Обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства» (3: 2, 37), соответственно, «в революционной деятельности изменение самого себя совпадает с преобразованием обстоятельств» (3:2, 191). Вечная философская проблема человеческой сущности или человеческой природы разрешается также через обращение к общественному целому в тезисе № 6: «Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» (1: 42, 262). Теперь Марксу уже не представляет труда подвергнуть тотальной критике все то в «обществе» и «человеке», что до сих пор рассматривалось как данное природой и блокировало тотальную критику действительности. Критика может и должна быть продолжена глубже естественных человеческих отношений (например, семейных) и естественных человеческих чувств (например, религиозного), поскольку относительно марксовской общественно-исторической практики вся остальная деятельность человека может быть представлена как деятельность внутренне противоречивая, ограниченная, как деятельность в «определенной форме общества» (1: 42, 263). Так возникает одно из важнейших марксистских понятий общественной формы или общественно-экономической формации как совокупности определенных исторических общественных отношений или общества на определенной ступени развития. Определяющим фактором в складывании общественных отношений оказывается у Маркса трудовая практика — производственная деятельность человека в определенных исторических условиях. Эта же практика в ее чистом, отрицательном или критическом значении должна привести к радикальному переустройству общества, к революции. Свою формулировку цели критической практики, приходящей на смену философии, Маркс дает в своем знаменитом итоговом тезисе № 11: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (1: 42, 263). Сложившееся в основном уже в «Немецкой идеологии» материалистическое понимание истории находит свою законченную формулировку в отрывке из предисловия к работе Маркса «К критике политической экономии» (1859): «Мои исследования привели меня к тому результату, что правовые отношения, так же точно как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа, что, наоборот, они коренятся в материальных жизненных отношениях. В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями... Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства... но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества» (3: 4, 137 — 138). Однако марксовские сочинения дают весьма краткие описания того, каким именно образом произойдет этот скачок человечества «из царства необходимости в царство свободы», в ходе которого власть перейдет в руки пролетариата и производительные силы общества будут обобществлены, и того, что собой будет представлять последующий, коммунистический период в истории человечества. Большинство марксовских работ имеет своим содержанием то, что можно определить как критику идеологии, ставшую потом чем-то вроде особого жанра всей послемарксовской социальной литературы. Критика идеологии. Своей критической революционной практике Маркс противопоставляет конкретные виды трудовой деятельности, которые относительно практики выступают как исторически ограниченные и ущербные формы реализации человеческой сущности и получают название идеологии. «Откуда берется, что отношения [индивидов] приобретают самостоятельное, противостоящее им существование. Если ответить одним словом: разделение труда» (3: 2, 76). Все формы разделенного труда, или формы наличного духа (если прибегнуть к терминологии Гегеля), или формы культуры (если воспользоваться современным языком) как мнимо самостоятельные в качестве идеологии должны быть подвергнуты критике и уничтожены. Основной удар приходится на религию. Критика идеологии, будучи всецело формальной, избавляет себя от необходимости входить в рассмотрение вопросов религии и веры. Дело считается решенным и не подлежащим обсуждению, религия — это «превратное мировоззрение» и подлежит безоговорочному осуждению и отрицанию. Поэтому мы не находим у Маркса обсуждения каких-либо теологических вопросов в явной форме, речь всегда идет только о религии как форме идеологии. Эта критика сразу же нас отсылает от «превратного мировоззрения» к его основанию, к «превратному миру», миру частной собственности и разделения труда. По условиям критики идеологии истинную сущность религии мы обнаруживаем вне ее и не просто в «обществе, мире человека», а в мире, где человек подвергается угнетению и эксплуатации, мире, противоречивом в себе самом. Поэтому религия и определяется только через отсылку к «превратному миру», ее породившему. Сама по себе религия представляется лишь вредной привычкой, «опиумом народа». В данном случае вся вина мира или его «превратность» состоит в том, что он порождает религию. Особенность критики идеологии в том, что она вся сосредоточена на передвижении от одной формы идеологии или формы сознания к ее основанию в следующей, более фундаментальной форме сознания, причем так, что мы одновременно лишаемся возможности содержательного обсуждения вопросов, относящихся к предмету критики. Отказ от обсуждения теологических вопросов проводится Марксом последовательно, вплоть до отрицания атеистической позиции: поскольку в соответствии с логикой и условиями критики идеологии атеизм есть не более чем «критическая религия», «последняя ступень теизма, негативное признание Бога» (3: 1, 121). Более того, Маркс даже отрицательным образом не связывает сферу религии и сферу политики, отвергая тезис о том, что упразднение религии, атеизм, «есть необходимое условие гражданского равенства» (3: 1, 99). Религия лишается всех естественных оснований и всех прежних объяснений, к которым была склонна предшествующая критика (страх, невежество, зависимость от природы и т. д.). Корни религии помещаются исключительно в некоторую общественную форму, которая призвана объяснить все аспекты религиозной жизни материальными общественными условиями. Еще меньше внимания, чем религиозным вопросам, уделяет Маркс проблемам морали и искусства. Мораль также объявляется лишь одной из форм идеологии, в силу чего она рассматривается исключительно как «при определенных обстоятельствах необходимая форма самоутверждения индивидов», и поэтому «коммунисты не выдвигают ни эгоизма против самоотверженности. Ни самоотверженности против эгоизма... не проповедуют никакой морали... не предъявляют людям морального требования» и даже выносят «смертный приговор всякой морали — будь то мораль аскетизма или наслаждения» (3: 2, 223 — 224), поскольку с «научной» точки зрения все моральные вопросы являются порождением определенных социальных условий, имеют свои социальные корни в условиях жизни определенных классов, и поэтому критический исследователь может считать себя свободным от понятий справедливо — несправедливо, поскольку «в научных исследованиях экономических отношений это ведет к путанице» (1:8, 274). Подлинное разрешение всех моральных коллизий возможно только в ходе революционной практики. Поэтому ««аморальным революционным пролетариям» чужды всякие «моральные глупости», поскольку они «возымели нечестивое намерение не «честно заработать» свое «наслаждение», а завоевать его»(3: 2, 195). Марксистская трактовка вопросов искусства еще более бедна, чем анализ проблем религии и морали. Искусство также безоговорочно относится к формам идеологии или формам общественного сознания, в связи с чем заранее лишается своего собственного содержания. Все обращения к теме искусства у Маркса являются лишь иллюстрациями к изображаемым общественным проблемам, именно с этой целью он обращается в своих сочинениях к Шекспиру,Сервантесу, Данте или Рубенсу. Так, о Рафаэле сказано, что «Рафаэль, как и любой другой художник, был обусловлен достигнутыми до него техническими успехами в искусстве, организацией общества и разделением труда в его местности» (3: 2, 367). Преодоление идеологического характера искусства, проистекающего в первую очередь из разделения труда, в научном коммунизме предполагается достичь путем снятия разделения труда в целом и тем самым предоставления возможности развить свои способности к искусству каждому, «в ком сидит Рафаэль». Таким образом, искусство не отбрасывается, подобно морали, а, наоборот предполагается, что искусство станет достоянием всех. Критика идеологии ведет нас от неистинных форм, религии, морали и искусства, к их истине в «действительности». Эта последняя представлена у Маркса в виде области политики и области гражданского общества. Поэтому «истина» религии обнаруживается для нас в первую очередь в политике. «Это государство, это общество порождает религию, превратное мировоззрение, ибо сами они превратный мир» (1:1,414). Соответственно, действительная критика религии не может быть критикой религии как таковой, а должна стать критикой действительности, порождающей религию. Как прежде критика философии стала критикой религии, так теперь превращается «критика религии — в критику права, критика теологии — в критику политики» (1: 1, 415). В работе «К критике гегелевской философии права»(1843) вполне четко вырисовывается общая позиция критики идеологии. Суть ее в том, что политические формы и противоречия между ними, которые разбирает Гегель в своей философии права, развертываются в обратном порядке, и противоречия не снимаются в вышестоящей форме, а, наоборот, усугубляются в более глубоком противоречии, обнаруживаемом в нижестоящей, более фундаментальной, как это пытается представить критика идеологии, форме. «Главная ошибка Гегеля заключается в том, что он противоречие явления понимает как единство в сущности, в идее, между тем как указанное противоречие имеет, конечно, своей сущностью нечто более глубокое, а именно — существенное противоречие. Так, например, здесь противоречие законодательной власти в себе самой (Речь здесь идет о противоречии монархического принципа и принципа сословного элемента. — Ю. С.) есть лишь противоречие политического государства, а следовательно, и противоречие гражданского общества с самим собой» (1:1, 324). Итоговым противоречием области политики оказывается противоречие ее в целом с собственным основанием в гражданском обществе или в противоречиях гражданского общества. «Из различных моментов народной жизни с наибольшим трудом совершилось формирование политического государства, государственного строя. Он развивался по отношению к другим сферам как всеобщий разум, как нечто потустороннее по отношению к ним. Исторической задачей стало затем вернуть политическое государство в реальный мир» (1:1, 254). На примере политики мы можем легко выделить самые характерные черты так называемой «идеологии», а в равной мере и характерные приемы самой критики идеологии. Всякой идеологии присуща прежде всего противоречивость. Далее ей свойственны: мнимая самостоятельность, отсутствие, как следствие, собственной истории. Предмет критики идеологии всегда оттесняется из настоящего в прошлое, поэтому идеология всегда представляется чем-то уже устаревшим, пережитком, или оковами для развития, тормозом на пути прогресса. Идеология всегда служит лишь для выражения действительности, является ее представителем. Но даже это выражение всегда искажает действительность, создает иллюзии, переворачивает все с ног на голову, скорее маскирует действительность, чем дает истинное представление о ней. Соответственно, любая идеология может быть разоблачена только критикой идеологии, обнаруживающей ее «эмпирические условия» в иной форме как ее истину (3: 2, 328 — 329). Характеристика этих эмпирических условий сводится к изображению гражданского общества «Эмпирическое наблюдение должно в каждом отдельном случае — на опыте и без всякой мистификации и спекуляции — выявить связь общественной и политической структуры с производством. Индивиды не в представлении, а в действительности, то есть — как они действуют, материально производят в определенных материальных границах» (3:2, 19). Соответственно, центр тяжести исследования смещается в сторону политической экономии. Критика политической экономии. С одной стороны политическая экономия выступает в виде формы идеологии и подвергается соответствующей критике, с другой стороны, критика собственного предмета политэкономии — экономических отношений производства и обмена — раскрывает их основания в действительности «общественных отношений» и представляет нам подлинный предмет материалистического понимания истории — общественно-экономическую формацию. По этой причине именно «Капитал», содержащий критику политической экономии, выступает в качестве фундамента всей предшествующей критики общества, развернутой в марксовских сочинениях. С позиции общественной формы экономические отношения рассматриваются Марксом как отношения в первую очередь между людьми, а не между вещами, и как отношения, пронизанные внутренними противоречиями. В самом простейшем и фундаментальном отношении двух товаров в акте товарообмена Маркс усматривает целый комплекс внутренних противоречий: между этими двумя товарами, между потребительной стоимостью и меновой стоимостью каждого товара — противоречие, которое еще вполне укладывается в рамки предмета политэкономии, которая, собственно, и обнаруживает за внешним видом товара его всеобщую субстанцию как стоимость, между двумя видами труда — абстрактным трудом вообще и конкретным, действующим в рамках разделения труда, каждый из которых создает свой вид стоимости — конкретный труд создает потребительную стоимость (товар с его полезной, потребительной стороны), абстрактный труд создает стоимость товара, проявляющую себя в акте обмена. Это открытие двойственного характера труда Маркс считал своим значительным достижением. Наконец, сама стоимость содержит в себе внутреннее противоречие между относительной и эквивалентной формами стоимости, выраженной в отношениях товаров друг к другу, позволяющих выразить скрытое свойство стоимости товара внешним образом в другом товаре, противостоящем ему в акте обмена. Следует обратить внимание на то, что центральное для критики идеологии противоречие разделенного труда, порождающее все виды идеологии, принимает в «Капитале» свой простейший и фундаментальный вид как противоречие между двумя товарами, созданными двумя видами труда; исследование довело это противоречие до своего самого грубого, предметно-вещественного выражения в виде самостоятельности двух товаров и двух видов труда. Маркс углубляет анализ этого противоречия вплоть до представления о внутреннем противоречии формы товарообмена, приводящей к тому, что отношения товаров все более усложняются за счет включения в их отношения сначала посредника в виде денег: заложенное противоречие обмена утверждает себя в виде предметного посредника, в котором это исходное противоречие отнюдь не разрешается или и разрешается, как и в обмене, и вновь утверждается и закрепляется в предметном виде, а затем развитие денежных отношений позволяет обнаружить, как в экономические отношения вплетаются отношения общественные, на той стадии развития денежных отношений, которая позволяет развиться такой форме, как капитал. «Как сознательный носитель этого движения, владелец денег становится капиталистом. Объективное содержание этого обращения — возрастание стоимости — есть его субъективная цель, и поскольку растущее присвоение абстрактного богатства является единственным движущим мотивом его операций, постольку — и лишь постольку — он функционирует как капиталист, то есть как олицетворенный, одаренный волей и сознанием капитал»(2: 1, 163—164). Маркс подчеркивает, что здесь мы имеем дело не просто с деятельностью отдельного индивида, использующего свои деньги особым образом и извлекающим из товарооборота определенную прибыль, а в первую очередь с общественной формой, с особым субъектом — сознательной «самодвижущейся субстанцией, самодвижущейся стоимостью»(2: 1, 165—166), капиталом вообще. С переходом от чисто спекулятивного к производительному капиталу, использующему рабочую силу наемных рабочих, определяющим для общественных производственных отношений становится противоречие между капиталом и деятельностью, или трудом, продающимся и покупающимся как товар. Как подчеркивает Маркс, появлению этого товара на рынке предшествовала целая историческая эпоха, в ходе которой возник класс трудящихся, лишенных средств производства и в силу этого вынужденных продавать свою рабочую силу капиталистам на рынке. В противоречивом или двойственном по своей общественной форме труде Маркс обнаруживает источник, производящий и стоимость, и в конечном счете капитал. Причем это не просто труд, а труд прибавочный, труд, увеличивающий стоимость. «Ту часть рабочего дня, в продолжение которой [рабочий] производит дневную стоимость рабочей силы... я называю необходимым рабочим временем, а труд, затрачиваемый в течение этого времени, — необходимым трудом. Второй период процесса труда — тот, в течение которого рабочий работает уже за пределами необходимого труда ... я называю прибавочным рабочим временем, а затраченный ... труд — прибавочным трудом» (2:1, 228). Таким образом, по Марксу, источником прибыли капиталиста и одновременно источником роста общественного капитала в целом и общественного богатства вообще является прибавочный труд — труд, который присваивается капиталистом и лишь частично возмещается рабочему в виде зарплаты. В связи с этим в исследовании возникает и тема эксплуатации чужого труда капиталом или проблема неоплаченного труда. Следует сказать, что продажа рабочим своей рабочей силы совершается в полном соответствии законам рынка, то есть по справедливой рыночной цене, поэтому о неоплаченном труде говорить здесь достаточно сложно, что признает и сам Маркс (см. : 2:1, 543). То, что понимается под эксплуатацией в чистом виде, представлено как противоречие собственности и труда, при котором все количество стоимости, образующей капитал, оказывается созданным прибавочным трудом и тем самым якобы обязано своим существованием исключительно труду рабочего. С философской точки зрения явление эксплуатации может быть рассмотрено как аналог гегелевской хитрости разума, заставляющей работать обыкновенное сознание на цели истории в целом. Различие между гегелевским и марксовским подходами к проблеме эксплуатации общественным целым индивидуальных усилий отдельных личностей состоит тогда в том, что первая стоит на позициях разума и хитрости разума и признает за историей право поступательного движения вперед, хотя бы и за счет деятельности ее участников, тогда как марксизм обнаруживает это противоречие лишь как противоречие в определенной исторической форме общества, относимой к предыстории человечества и намеревается это противоречие разрушить в пользу если не самих исторических деятелей, то в пользу некоей «рабочей силы», которой надлежит вернуть отнятое у нее историческим процессом, что, по сути, означает необходимость отказаться от самого исторического процесса в его поступательном варианте. Для разрешения этого противоречия уже нельзя ограничиваться теоретическим анализом, необходимо выйти из самого процесса производства, что равносильно тому, чтобы выйти за рамки конкретной истории. Исследование может теоретически предвидеть этот шаг: «Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют» (2: 1, 773), но ни изобразить его предметно в исследовании, ни тем более сделать какие либо шаги в этом направлении оно не в состоянии в силу собственной внутренней ограниченности, обусловленной в первую очередь чисто критическим, односторонне негативным характером марксистской теории в целом. По причине этой внутренней противоречивости вся последующая история марксовской теории демонстрирует нам различные варианты марксистских «ересей», каждая из которых делает упор на той или иной стороне в марксизме, но не выдерживает того баланса в теории, который был достигнут самим создателем марксизма, что уже Маркса заставляло постоянно открещиваться от тех или иных искажений марксизма и заявлять, что он сам не является «марксистом». Существенные сдвиги в марксистской теории прослеживаются уже в теоретической деятельности Энгельса, который после смерти Маркса выступил в роли теоретического душеприказчика Маркса. Он очень много сделал для консолидации марксистской теории, но при этом у Энгельса мы находим разворот от строгой критичности марксизма к созданию своеобразного варианта позитивистской философии: «Современный материализм является по существу диалектическим и не нуждается больше ни в какой философии, стоящей над прочими науками. И тогда из всей прежней философии самостоятельное существование сохраняет еще учение о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика. Все остальное входит в положительную науку о природе и истории»(3: 5, 20). Такое утверждение означало применительно к Энгельсу вместе с тем и возвращение от единой марксовской теории к дуализму истории и природы и, соответственно, кантовскому дуализму наук, а также мышления и действительности, вопрос о происхождении и разрешении которых даже не ставится. Тем самым Энгельс затушевал глубинные философские корни марксовского материализма и придал ей вид обычной «научной» философии в духе конца XIX века: «Всей философии в старом смысле приходит конец. Мы оставляем в покое недостижимую на этом пути и для каждого человека в отдельности «абсолютную истину» и зато устремляемся в погоню за достижимыми для нас относительными истинами по пути положительных наук и обобщения их результатов при помощи диалектического мышления» (3: 6, 292). В письмах Энгельса 90-х гг. появляется также утверждение, что области идеологии действительно обладают определенной самостоятельностью и могут выступать в качестве особых факторов исторического развития: ««хотя материальные условия существования являются primum agens[41], это не исключает того, что идеологические области оказывают, в свою очередь, обратное, но вторичное воздействие на эти материальные условия» (3: 6, 509). Подобные заявления Энгельса лишали критические выводы марксистской теории строгой однозначности и вели к путаному представлению о «взаимодействии» различных факторов в истории. Не только для Энгельса, но и для всех последующих марксистов теория Маркса была «не догмой», а прежде всего руководством к собственным теоретическим выводам. В целом можно выделить два основных направления по которым эволюционировала марксистская теория в последующие годы. Первое направление связано с политическими движениями, ориентирующимися на практические социальные преобразования и действующими в рамках тех или иных партий марксистской ориентации. Внутри этого направления резко выделяются реформистское и революционное крыло марксистов; в числе первых можно упомянуть К. Каутского и Э. Бернштейна, представителей немецкой социал-демократии, которым противостоят сторонники революционных преобразований в лице К. Либкнехта и Р. Люксембург. В российском социалистическом движении подобное расщепление марксизма представлено, с одной стороны, Г. В. Плехановым, с другой стороны — В. И. Ульяновым (Лениным) и Л. Д. Бронштейном (Троцким). Второе направление эволюции марксизма связано с развитием социологических и философских теорий различными теоретиками на Западе, относившимися к марксизму в первую очередь как к теории, а не политическому движению. В этом отношении марксизм оказал очень мощное воздействие на западную общественную и философскую мысль. Большинство философских концепций ХХ в. на Западе тем или иным образом испытали влияние марксизма. Своеобразные трактовки марксистской теории были разработаны в рамках Будапештской школы (Д. Лукач, А. Геллер), Белградской школы (Г. Петрович, М. Маркович, С. Стоянович), Франкфуртского института социальных исследований в Германии. Из представителей Франкфуртской школы следует упомянуть ее основателей М. Хоркхаймера и Т. Адорно, а также выходцев из этой школы Г. Маркузе, Э. Фромма, Ю. Хабермаса. Литература1.Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1955—1974. 2.Маркс К. Капитал. Т. 1-3. М., 1983-88. 3.Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения: В 9 т. М., 1985. 4.Марксистская философия в XIX веке. М., 1977. 5.Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA). 6.Вазюлин В. А. Логика «Капитала» К. Маркса. М., 1968. 7.Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. М., I960. 8.Зандкюлер Г. Й. Критика и позитивная наука. К эволюции Марксовой теории // Историко-философский ежегодник. 1990. М., 1991. С. 6 —25. 9.Ленин В. И. Философские тетради. М., 1978.Мамардашвили М. К. Анализ сознания в работах Маркса // Вопросы философии. 1969, № 6. 10.Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма. М., 1986. 11.Селиванов Ю. Р. Феноменология отчужденного духа. М., 1999. Глава 6. Первый позитивизм Позитивизм — одно из наиболее влиятельных направлений западной философии последних двух столетий. Позитивизм прошел три основных этапа в своем развитии. Первый этап связан с учениями Конта, Милля, Спенсера. Второй этап — эмпириокритицизм Маха и Авенариуса. Третий — логический позитивизм «Венского кружка» (или неопозитивизм Шлика, Карнапа и др.). Сторонников позитивизма объединяет убеждение в невозможности построения «истинной» метафизики. С точки зрения позитивизма утверждения о субстанциальной сущности вещей не могут носить научного характера. Отбрасывая онтологию как несостоятельную псевдонауку, позитивисты вовсе не предлагали упразднения философии как таковой. Они полагали, что подлинная («позитивная») философия должна способствовать прогрессу конкретно-научных дисциплин. Способ реализации этой задачи на различных этапах развития позитивизма трактовался по-разному. Философия — синтез научного знания, включающий в себя основные положения и методы частных наук; она расширяет кругозор ученого, способствует достижению главной цели любого научного исследования — предвидению будущих событий и практическому применению этого знания (О. Конт). Задача философии — очищение содержания науки от мнимых проблем, предоставление «регулятива естественно-научному мышлению» (Э. Мах). Философия — не система знаний, а система действий по прояснению значения предложений; «с помощью философии предложения объясняются, с помощью науки они верифицируются» (М. Шлик). Основатель позитивизма Огюст Конт (1798—1857) родился в Монпелье в семье чиновника. Учился в лицее, затем в парижской Политехнической школе. С 1817 по 1824 г. работал в качестве секретаря у Сен-Симона, с 1832 г. был репетитором по математике в Политехнической школе. Главное сочинение Конта — «Курс позитивной философии» (т. 1—6, 1830—1842). В основе контовской философии лежит «закон трех стадий», описывающий интеллектуальную эволюцию человечества. По мнению французского мыслителя, как отдельный индивидуум, так и человечество в целом последовательно проходят в своем развитии три стадии: 1)теологическую, 2) метафизическую, 3)научную (позитивную). Теологическая (или фиктивная) стадия соответствует младенческому состоянию человеческого разума, который не способен к решению простейших научных проблем. Человек, находясь на первой стадии своего развития, стремится приобрести (в действительности для него недоступное) знание о сущности мира, объяснить все явления, отыскать началавсех вещей. Подобная «примитивная потребность» удовлетворяется довольно простым способом: люди рассматривают явления внешнего мира, объясняя их по аналогии с собственными действиями, связывая происходящие события с деятельностью антропоморфных сверхъестественных существ. Теологическую стадию Конт подразделяет на три ступени: фетишизм, политеизм, монотеизм. Фетишизм заключается в приписывании жизни всем внешним телам. Политеизм переносит жизнь на особые вымышленные существа, которые, как предполагается, активно влияют на судьбы людей. Монотеизму свойственно сведение большого числа почитаемых сверхъестественных существ к одному-единственному. Метафизическая (или абстрактная) стадия так же, как и теологическая, характеризуется стремлением человеческого ума к достижению «абсолютного знания» о первопричинах. Различие двух первых стадий в том, что меняются сами принципы объяснения мироздания: место сверхъестественных сущностей теперь занимают абстрактные силы. Эти абстрактные силы изучает особая дисциплина — онтология, которая ставит своей задачей объяснение внутренней природы всех вещей. Типичная черта метафизической стадии — недостаточное внимание к наблюдениям и повышенный интерес к умозрительной аргументации, слабо подкрепленной фактами. Метафизическая стадия, согласно Конту, носит переходный характер: ее назначение — постепенное разрушение теологического мышления и подготовка почвы для будущего триумфа научного метода. Позитивная (или научная) стадия, по Конту, является «окончательным состоянием человеческого ума». Основной признак позитивной стадии — «закон постоянного подчинения воображения наблюдению». Это означает, что отныне вместо исследования неразрешимых вопросов о сущности бытия человек направляет свои усилия на изучение фактов и установление законов, т. е. тех отношений, которые существуют между наблюдаемыми явлениями. «Истинный позитивный дух состоит преимущественно ... в замене слова «почему» словом «как» (2: 4, 81). Невозможность достижения знаний о сущности мироздания, по мнению Конта, доказывается теоретической произвольностью и практической бесполезностью прежних попыток, предпринимавшихся теологами и метафизиками. Истинность же «закона трех стадий» как такового доказывается, на его взгляд, общей историей наук. «Нет ни одной науки, достигшей в наше время положительного состояния, которую в прошлом нельзя было бы себе представить состоящей главным образом из метафизических абстракций, а в более отдаленные времена даже и находящейся под полным господством теологических понятий» (1:5). Позитивная философия, по Конту, — одна из научных дисциплин. Она делает своим содержанием важнейшие результаты каждой из основных наук и рассматривает их наиболее общие методы. Позитивная философия осуществляет общий синтез научного знания (при этом она вовсе не тождественна простой совокупности наук, т. к. не включает в себя бесчисленные частности, входящие в их состав). Структуру философии раскрывает «энциклопедический закон», который устанавливает классификацию наук. В «Курсе позитивной философии» иерархия наук, в которой и находит свое выражение «энциклопедический закон», выглядит следующим образом: 1)математика, 2) астрономия, 3) физика, 4) химия, 5) физиология (биология), 6) социальная физика (социология). Приведенная классификация, по мнению ее создателя, отражает одновременно историческую и логическую (или «догматическую») взаимосвязь наук. С исторической точки зрения, по Конту, предложенная им иерархия отражает порядок последовательного возникновения наук. Таким образом, классификация выстроена по принципу движения наук от более древних к более новым. С другой стороны, догматический принцип построения классификации предусматривает учет взаимных связей между предметами отдельных наук. Французский философ утверждает, что в его классификации зафиксирована взаимосвязь явлений, познаваемых различными науками. Хотя науки и несводимы друг к другу, однако их расположение в иерархии предполагает определенную и к тому же неизменную зависимость: включенные в классификацию дисциплины должны опираться на предшествующие и подготавливать последующие. С логической точки зрения науки располагаются в иерархии в соответствии с принципами движения: 1)от общего к частному и 2) от простого к сложному (эти принципы диктуются соотношением изучаемых явлений). Кроме того, «энциклопедический закон», как настаивает Конт, отражает степень совершенства главных отраслей человеческого знания. Это совершенство определяется уровнем согласованности друг с другом и степенью точности тех знаний, которыми располагает та или иная наука (знания будут тем точнее, чем более общими и простыми оказываются явления, служащие предметом исследований). Необходимо отметить, что существенным недостатком контовской классификации наук является ее односторонняя ориентация на естествознание. Социально-политическое учение. Важной своей заслугой Конт считал создание социальной физики (или социологии — данный термин именно им введен в научный оборот). Социальную физику он подразделяет на социальную статику и социальную динамику. Статика включает в себя три главных элемента. Она изучает общие условия социального существования индивида, семьи и общества. Рассматривая индивида, Конт выделяет два исходных, на его взгляд, свойства человеческой природы: преобладание аффективных способностей над интеллектуальными и преобладание эгоистических стремлений над более благородными склонностями. Анализируя «общество как таковое» французский мыслитель говорит о двух неразрывно связанных и необходимых для его существования принципах: о разделении труда и о сотрудничестве. В своей социальной динамике он отстаивает идею прогресса. По его мнению, прогресс состоит как в постоянном улучшении материальной жизни людей, так и (главным образом) в совершенствовании их интеллектуальных и моральных качеств. «Преобладающим принципом», определяющим в конечном счете прогресс человеческого рода, он считал «развитие разума» (интеллектуальная эволюция направляет весь ход человеческой истории). Конт объявляет «фундаментальной концепцией» социальной динамики «великий закон трех стадий». Анализируя названный закон, он стремится обосновать взаимосвязь интеллектуального и политического развития человечества. Теологической стадии соответствует военный режим, который, как правило, получает полное одобрение священников; в то же время религия пользуется значительной поддержкой властей, всячески укрепляющих ее авторитет. Метафизической стадии соответствует существенно видоизменившаяся военная система: в отличие от первоначальной, она теряет наступательный и приобретает оборонительный характер. Наконец, распространение научного мышления сопровождается созданием индустриальной системы и связанных с ней особых политических отношений. Конт полагал, что современное ему общество находится в состоянии глубокого политического кризиса, причину которого он усматривал в наличииплюрализма мнений: «наша опаснейшая болезнь состоит в глубоком разногласии умов относительно всех основных вопросов жизни» (1: 21). По его мнению, кризис общества может быть преодолен только с помощью истинной философской доктрины: постепенное распространение научного мышления приведет к полному торжеству позитивизма, что, в свою очередь, предопределит изменение социальных институтов. В обществе будущего, по Конту, неизбежно доминирование центральной власти. Вместе с тем он категорично заявлял о недопустимости верховной власти народа. При этом он не думал, что когда-нибудь исчезнут классовые различия: напротив, на его взгляд, деление людей на предпринимателей и производителей неустранимо и полностью оправданно с научной точки зрения. Представители пролетариата должны отказаться от нелепых притязаний на власть и богатство. Предприниматели же обязаны избавить пролетариев от нищеты, мудро осуществляя использование принадлежащих им капиталов. По мнению французского философа, в обществе будущего политику станет определять мораль. В основе позитивистской морали — принцип альтруизма (термин введен Контом). Альтруизм предполагает возвышение общественных интересов над личными, выступает «принципом всеобщей любви». Позитивистская мораль усматривает ценность людей не в том, что они — неповторимые отдельные существа, а в том, что они — различные части единого социального организма. Девиз позитивистской морали — «жить для других». Мораль формирует общественное мнение, благодаря которому у граждан будут отсутствовать всякие сомнения относительно поведения в «каждом отдельном случае». Основатель позитивизма считал, что «разумный порядок» в социальной сфере установится на Земле постепенно, первоначально утвердившись в Европе (он предсказывал образование Западной республики со столицей в Париже). Следует отметить, что в контовском «обществе будущего» все стороны человеческого бытия оказываются жестко регламентированы центральной властью, безоговорочно господствует единая идеология, полностью исключающая плюрализм мнений, а уникальность человеческой личности практически не принимается во внимание. В последние годы своей жизни Конт выступил с обоснованием религии Человечества. Он провозгласил, что «Человечество есть истинное Великое Существо», «которое навсегда заменило понятие Бога» (2: 5, 149). Жрецами Человечества выступают философы-позитивисты, а «наука приобретает истинно — священный характер, как систематическое основание всеобщего культа» (2: 5, 156). Культ Человечества, по Конту, требует введения новых общественных празднеств и обрядов, прославления великих людей, введения нового, «позитивистского» календаря. Позитивная философия должна превратиться в «окончательную религию». Джон Стюарт Милль (1806— 1873) — один из крупнейших представителей британского позитивизма. Он получил домашнее образование, с 1823 по 1858 г. служил в Ост-Индской компании (с 1856 г. возглавлял ее). В течение ряда лет Милль состоял членом парламента. С 1841 г. он находился в переписке с Контом (хотя никогда и не встречался с последним). Главное философское произведение Милля — «Система логики» (1843). Подобно Конту Милль считал невозможным получение «абсолютного знания» о сущности вещей. Все, что люди могут знать о мире, сводится к испытываемым ими ощущениям. Но эти ощущения отнюдь не раскрывают внутренней природы вещей. Обосновывая данное положение, Милль ссылается на качественное различие между причиной и следствием: «восточный ветер не похож на ощущение холода, ожог не похож на пары кипящей воды. Почему же материя должна походить на наши ощущения?» (5, 53). Материю Милль определяет как «постоянную возможность ощущений». Причинную связь он сводит к последовательности явлений. Он выделяет три типа объяснения законов природы: 1) разложение сложного закона (описывающего «сложное следствие») на простые (законы причин этого следствия), 2) установление «промежуточного звена» в последовательности явлений, 3) сведение частных законов к более общему. Главным методом научного исследования, согласно Миллю, является индукция (в этом вопросе он продолжает линию Ф. Бэкона). По его мнению, «основанием всех наук, даже дедуктивных, служит индукция»; «прибавляя ... силлогизм к силлогизму, мы в действительности прибавляем одну индукцию к другой» (5: 201, 189). В рамках индуктивистской модели познания он разработал четыре «метода опытного исследования»: 1)сходства («если два или более случая подлежащего исследованию явления имеют общим лишь одно обстоятельство, то это обстоятельство ... есть причина (или следствие) данного явления», 2)различия («если случай, в котором исследуемое явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, сходны во всех обстоятельствах, кроме одного, встречающегося лишь в первом случае, то это обстоятельство ... есть следствие, или причина, или необходимая часть причины явления»), 3)остатков («если из явления вычесть ту его часть, которая, как известно из прежних индукций, есть следствие некоторых определенных предыдущих, то остаток данного явления должен быть следствием остальных предыдущих»), 4) сопутствующих изменений («всякое явление, изменяющееся определенным образом всякий раз, когда некоторым особенным образом изменяется другое явление, есть либо причина, либо следствие этого явления, либо соединено с ним какою-либо причинною связью») (5: 354 — 365). Важно отметить, что применение индукции, по Миллю, предполагает принцип единообразия порядка природы. В своем сочинении «О свободе» (1859) английский мыслитель выступил сторонником политического либерализма. Он объявляет общим принципом, ограничивающим власть общества по отношению к личности, следующее положение: человеку должно быть позволено все, что не приносит вреда другим людям. Милль выделяет три аспекта политической свободы: 1)свободу мнения (относительно «всех возможных предметов»), 2)свободу выбора жизненных целей (она предполагает возможность жить в соответствии со своими взглядами), 3) свободу ассоциации (т. е. вступления в объединение с другими людьми в рамках какой-либо организации). Обосновывая необходимость свободы мнения, он говорит о том, что: а) запрещаемое мнение вполне может оказаться истинным, б)даже если запрещаемое мнение ложно, знание его послужит лучшему уяснению истины, в)запрещаемое мнение может быть частично истинным и лишь частично ложным (и поэтому попытка полностью отбросить его задержит прогресс научного познания). Утверждая право индивида устраивать жизнь по собственному усмотрению, Милль ссылается на разнообразие человеческих характеров. Это разнообразие, на его взгляд, требует наличия различных образов жизни. Различные люди не могут чувствовать себя одинаково комфортно в единых для всех условиях. По-настоящему развить все свои способности сумеет только тот человек, который устраивает свою жизнь в соответствии со своими, самостоятельно выработанными убеждениями. Милль одним из первых заявил об опасности появления «массового общества». Он усматривал крайне негативную тенденцию в распространении особого типа «среднего человека», который не имеет никаких наклонностей и идей, кроме «общепринятых». Он считал, что торжество «массового» человека может остановить прогрессивное развитие европейского общества. Поэтому английский философ говорил о необходимости всячески отстаивать права индивидуальности. Свобода ассоциации, по Миллю, напрямую вытекает из права людей на выбор жизненных целей. Он был противником чрезмерной централизации власти и полагал, что значительное число вопросов общественной жизни должно решаться на уровне местного самоуправления. Согласно Миллю, для жизни общества всегда вредно резкое усиление правительственной власти; прессу он рассматривал как важное средство против злоупотреблений государственных чиновников. Английский мыслитель критиковал политическую философию Конта, поскольку, по его мнению, она ведет к установлению «деспотизма», к уничтожению свободы личности. Герберт Спенсер (1820— 1903) — весьма влиятельный представитель британского позитивизма. Он получил техническое образование, работал инженером на строительстве железной дороги. Впоследствии Спенсер становится сотрудником журнала «Экономист», а затем ведет жизнь кабинетного ученого, занятого реализацией замысла построения «синтетической философии». Его главное философское сочинение — «Основные начала» (1862). Эта работа содержит учение о Непознаваемом (1-я часть) и Познаваемом (2-я часть). Познаваемое — это область явлений, Непознаваемое — Абсолютная Реальность, лежащая в основе этих явлений. В разделе о Непознаваемом Спенсер говорит о возможности согласовать выводы религии и науки. Анализируя «конечные религиозные идеи», он заявляет, что по вопросу о происхождении Вселенной не может быть найдено удовлетворительного ответа. Вселенная либо существует сама по себе, либо она создала сама себя, либо сотворена внешней силой. Все три гипотезы понятны только на словах, их невозможно последовательно мыслить; кроме того, нет никакого способа удостовериться, что они соответствуют действительности. Отсюда следует признание того факта, что сила, лежащая в основе всего, совершенно непознаваема. Этот вывод и есть общий истинный элемент всех религий, содержащих вместе с тем множество ошибочных и нелепых представлений. Рассматривая «конечные научные идеи», Спенсер говорит о том, что невозможно постичь пространство и время ни как объективные сущности, ни как субъективные качества. Равным образом материю невозможно мыслить ни как делимую до бесконечности, ни как неделимую. (Если предположить бесконечную делимость, нужно следовать мыслью за этими бесконечными делениями, что невозможно; если предположить неделимость, нужно представить частицы, которые никакая мыслимая сила не может разделить, что также невозможно). Остается признать, что материя, пространство и время соответствуют реальности, которую нельзя постичь. Таким образом, наука и религия приходят к одинаковому результату: принятию тезиса о наличии безграничной и непостижимой силы, проявлением которой выступает все сущее. В начале раздела о Познаваемом Спенсер разбирает вопрос о природе философии. В то время как наука — «отчасти объединенное знание», философия — «вполне объединенное знание». Задача философии — синтез научного знания. Философия формулирует выводы наивысшей степени общности. Она стремится охватить все конкретные явления единым общим законом.Этот общий закон описывает цикл изменений, претерпеваемый любым объектом и включающий в себя целостный процесс эволюции и распадения. Эволюция, по Спенсеру, это: а)интеграция материи и рассеяние движения, б)переход от неопределенного к определенному, в)переход от однородного к разнородному. Эволюция любого агрегата заканчивается равновесием (между силами, действующими извне и изнутри). Поскольку равновесие неустойчиво (оно может быть нарушено при изменении баланса внешних сил), то агрегат неизбежно должен перейти к разложению. Разложение — процесс, состоящий в дезинтеграции материи и поглощении движения. Чередование эволюции и распадения характеризует развитие не только отдельных предметов, но и Вселенной в целом. Периодическая смена эр эволюции и разложения не раз происходила во Вселенной в прошлом и неизбежно ожидает ее в будущем (причем процессы эволюции всегда тождественны по своему принципу, но отличны по своим результатам, поэтому абсолютного повторения циклов не происходит). В рамках своей социально-политической концепции Спенсер рассматривал общество как организм. По его мнению, отношения между частями общества подобны отношениям между частями живого тела. Как и организм, общество способно к росту, к усложнению строения, разделение труда в нем аналогично «физиологическому разделению труда». Любой общественный, как и телесный, орган, обладает системами питания, распределения и регулирования. Спенсер выделяет два типа обществ, возникших в ходе эволюции человечества. Военный тип общества характеризуется господством внешней регулятивной системы, которая устанавливает принудительное сотрудничество граждан. Эта система затрудняет смену рода занятий, места жительства, общественного положения. Попытки создания негосударственных организаций успешно подавляются. Власть централизована; структура общества приспособлена к борьбе с внешними государствами. Промышленный тип общества (возникающий гораздо позднее военного) основан на системе добровольной кооперации, когда происходит взаимный обмен услугами. В таком обществе отсутствует деспотическая власть, появляется масса частных организаций. В отличие от военного, промышленный тип общества подчинен отрицательному регулированию, но не положительному (есть система запретов, но нет прямых предписаний относительно того, как обязан жить каждый гражданин). Размышляя о политическом будущем человечества, Спенсер утверждал, что войны вообще прекратятся, а главной целью государства станет забота о предотвращении вреда, который члены общества могли бы нанести друг другу (государство должно существовать для индивида, а не наоборот; при этом значительную часть функций правительства в дальнейшем возьмут на себя общественные организации). Литература1.Конт О. Курс положительной философии. Т. 1, СПб., 1900. 2.Конт О. Общий обзор позитивизма // Родоначальники позитивизма. Вып. 4-5. СПб., 1912-1913. 3.Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 2001. 4.Comte A. Cours de philosophie positive. T. 1 - 6. P., 1907 - 1908. 5.Милль Д. С. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1914. 6.Милль Д. С. Утилитарианизм. О свободе. СПб., 1869. 7.The Collected Works of John Stuart Mill. 25 vol. Toronto — L., 1963. 8.Спенсер Г. Основные начала. СПб., 1899. 9.Синтетическая философия Герберта Спенсера. К., 1997. 10.Spencer H. Works. 18 vol. L. N.I., 1910. 11.Arnaud P. La pensee d'Auguste Comte, P., 1969. 12.Elliot H. S. R. Herbert Spencer. L., 1917. 13.Levy-Bruhl L. La philosophie d'Auguste Comte. P., 1900. 14.Packe M. The Life of John Stuart Mill. L., 1954. Глава 7. Второй позитивизм Начиная с середины XIX в. в философии нарастала критика метафизики как совокупности учений о сверхчувственном. Трансцендентное решительно изгонялось из философских систем. Если такая критика исходила от экзистенциально настроенных авторов, то это оборачивалось акцентировкой значимости посюсторонних аспектов жизни, если она шла от социальных философов, то на место Божественного Провидения как движущей силы истории выдвигались экономические и другие внутриобщественные факторы. И даже при сохранении понятия Божественного, оно обретало новый смысл: предметом обожествления становился человек и человечество. Все эти тенденции могли бы быть обозначены как «позитивистские», так как они ориентированы на позитивное отношение к миру, а не на его отрицание ради трансцендентных ценностей. Но исторически за термином «позитивизм», как было показано в предыдущей главе, закрепилось более узкое значение сциентистской философии. Позитивисты не просто вытесняют метафизику, но и пытаются заменить ее эмпирической наукой. Очевидно, что одним из важных составляющих такой замены должно стать устранение метафизических рудиментов в самой науке. И неудивительно, что Эрнст Мах, сделавший акцент на этой проблеме, занимает важное место в истории позитивистского движения. Знаменитый психолог и физик, подготовивший почву для создания А. Эйнштейном теории относительности, Мах шел к очищению науки от метафизики, отталкиваясь от потребностей самой науки. Он даже заявлял, что он «не философ, а только естествоиспытатель» (6: 32). Но элиминация трансцендентных сущностей из физики и эмпирического знания о мире вообще означает, что ученый должен работать исключительно с наличностью, опытными данными. Однако эти данные традиционно отождествляются с ощущениями, понятие о которых, очевидно, имеет психологический характер. Таким образом, устранение метафизического балласта эмпирической науки поставило Маха перед сложной философской проблемой демаркации различных научных дисциплин и прежде всего физики и психологии. Выдвижение этой проблемы на первый план составляет характерную черту махистской версии позитивизма[42]. Мах родился в Моравии в 1838 г., окончил университет в Вене в 1860 г. и преподавал там же физику. В 1864 г. он стал профессором математики в университете Граца, в 1867 г. — профессором физики в Праге. В 1895 г. Мах вернулся в Вену в качестве профессора индуктивной философии. В 1901 г. он вышел в отставку, но продолжал научную и политическую деятельность (он стал членом парламента). Мах умер в 1916 г. Его главными философскими работами являются «Анализ ощущений» (1886) и «Познание и заблуждение» (1905). Мах вспоминал, что, когда ему было около 15 лет, он наткнулся в библиотеке отца на «Пролегомены» Канта. Эта книга произвела на него громадное впечатление, избавив от наивно-реалистического взгляда на мир, но через два-три года в один из солнечных летних дней он вдруг осознал ненужность кантовского понятия вещи в себе, раскалывающего бытие на субъективную и объективную составляющие. Он почувствовал, что Я и мир образуют один комплекс ощущений, лишь более тесно сплоченный в Я. Со временем эта интуиция превратилась в стройную теорию. Итак, мир, по Маху, есть совокупность опытных данностей, которые он называл «ощущениями» или «элементами». Эти термины неравнозначны и изначально правильнее говорить о депсихологизированных, нейтральных «элементах». Они не хаотичны, а связаны между собой определенными отношениями зависимости. Тесная зависимость приводит к образованию относительно устойчивых «комплексов элементов». В обыденной речи такие комплексы именуются вещами. Хотя по своей сути все элементы гомогенны, их можно разнести по трем разным рубрикам. Первую составляют элементы, образующие внешние нам тела. Мах обозначает их «А ВС». Вторая рубрика содержит элементы нашего тела, «К L М», третья — такие вторичные состояния, как мысли, воспоминания и т. п. — «? ? ?». В каждой из групп элементов имеются своего рода горизонтальные связи, когда появление новых элементов вызывается сочетанием других элементов из той же группы. Но изменения в какой-либо из групп могут порождаться и элементами другой группы. К примеру, изменения цвета внешних тел, т. е. возникновение новых элементов в группе «А В С», может проистекать не только от других элементов того же класса (новых источников света и т. п.), но и от модификации наших органов чувств, т. е. от элементов группы «К L М». Более того, зависимость элементов первой группы от элементов второй имеет, по Маху, универсальный характер: «В действительности же ABC всегда зависит и от К L M» (5: 280). Состояния нашего тела опосредуют взаимодействие внешних тел и элементов третьей группы, составляющих концептуальный образ мира. Несмотря на тотальную взаимозависимость элементов, человек, утверждает Мах, может акцентировать внимание на тех или иных видах зависимости, абстрагируясь при этом от других, точнее принимая значения соответствующих им элементов за неизменную величину. Эта процедура — выбор «точки зрения» — позволяет придавать самим по себе нейтральным элементам физический или психологический смысл. Если элементы «АВС» изучаются в аспекте их связей с элементами той же группы, то они предстают в качестве предметов физики. Но если исследовать те же элементы в контексте их зависимости от состояний нашего тела, то подобное исследование будет относиться уже к сфере психологии[43]. Так, цвет — это физический объект, поскольку мы рассматриваем его зависимость от источника света и т. п. Но если мы рассматриваем его зависимость от сетчатки, он становится психическим объектом, т. е. ощущением. Поскольку все элементы в той или иной степени зависят от состояний нашего тела и его органов чувств, т. е. от элементов группы «К L М» (это справедливо и для элементов самой этой группы), то все составные части мира можно именовать ощущениями. Однако такой подход неизбежно порождает проблему границ человеческого Я. Ведь ощущения — это состояния Я, и если мир сводится к комплексам ощущений, то весь он умещается в пределах нашего Я. Мах не пытается замолчать эти трудности, и он не идет по пути солипсизма. Он предлагает пересмотреть само понятие Я. Неверно думать, будто это какая-то самостоятельная сущность, субстанция, имеющая четко определенные онтологические границы. В этом смысле Я вообще не существует. Мир — это совокупность элементов, и Я есть не более чем относительно постоянное ядро последней[44], тесно связанное с чувствами удовольствия и боли и отчасти имеющее, как уточнял он в «Познании и заблуждении», приватный характер. Размывание границ Я имеет, по Маху, важные практические следствия, показывая необоснованность тех этических учений, которые, подобно ницшевской концепции сверхчеловека, уделяют слишком большое внимание человеческой индивидуальности. Должно измениться отношение и к проблеме бессмертия личности. Впрочем, Мах не призывает вообще отказаться от термина «Я». Его использование оправданно в тех же практических целях для характеристики устойчивых комплексов элементов второй и третьей группы. Эти комплексы относительно самостоятельны и вступают в специфические отношения с другими элементами. Для их описания лучше всего подходят биологические категории, интерес к которым у Маха объясняется пониманием им значимости дарвиновской революции. Я стремятся к самосохранению и пытаются приспособиться к миру. Познание оказывается важнейшим компонентом этого процесса. Для достижения наилучших результатов организмы должны затрачивать на познание ровно столько энергии, сколько необходимо для адаптации. Иными словами, в познании главенствует принцип «экономии мышления», сообразно которому мысли приспосабливаются к миру, а затем и друг к другу. На начальном уровне этот принцип проявляется, в частности, в установке на объединение различных представлений общими понятиями, а также в фиксации комплексов элементов каким-либо единым термином. Несмотря на «экономическую» оправданность подобных действий (множество выгодно заменять единством), их результаты могут в некоторых случаях оказываться помехами на пути познания, вступая в противоречие с более универсальными требованиями того же рода. К примеру, использование одного имени для какого-либо комплекса элементов может подтолкнуть к ошибочному выводу о том, что за множеством этих элементов скрывается некая неизменная сущность, субстанция или вещь в себе, что, в свою очередь, может инициировать бесплодные поиски материального эквивалента этой фантазии. Похожий итог может иметь и некритичное обращение с такими самими по себе полезными фикциями, как атомы. Гипостазирование атомов может сдерживать прогресс науки, которой на каком-то этапе могут потребоваться совсем другие фикции. Мах затратил немало сил, выявляя разного рода метафизические помехи естествознанию и показывая, что все теоретические конструкции человеческого мышления должны рассматриваться не в онтологическом, а в эпистемологическом плане как средства экономного описания функциональных отношений между элементами. Именно в установлении таких отношений состоит подлинная задача науки, и только в процессе ее разрешения, т. е. в процессе открытия законов связи элементов, наука оказывается эффективным средством биологической адаптации. По словам Маха, принцип экономии мышления был сформулирован им еще в начале 70-х гг. XIX в. Какое-то время ему казалось, что он обречен отстаивать его в одиночестве. Однако в 1883 г. он познакомился с воззрениями Рихарда Авенариуса, и вскоре убедился, что идет с ним совершенно параллельными курсами: «Что касается Р. Авенариуса, — писал Мах, — то наше духовное родство так велико, как оно вообще возможно у двух лиц, развивавшихся совершенно различно, работавших в различных областях и друг от друга вполне независимых» (5: 58). Впрочем, в отличие от Авенариуса Мах не стремился к созданию завершенной философской системы. Кроме того, Мах отмечал, он шел к своим взглядам от идеализма Канта и Беркли[45], тогда как Авенариус, по его мнению, отталкивался от реалистических или даже материалистических предпосылок. Впрочем, сам Авенариус рисовал противоположную картину. Авенариус родился в 1843 г. в Париже, получил образование в Лейпциге. С 1887 г. и до самой смерти в 1896 г. был профессором университета в Цюрихе. Среди его главных работ — «Философия как мышление о мире по принципу наименьшей меры силы» (1876), «Критика чистого опыта» (1888—1890), «Человеческое понятие о мире» (1891) и статья «О предмете психологии» (1894). В эссе о философии 1876 г. Авенариус заявил о целесообразности психических функций, служащих сохранению организма, и вывел отсюда принцип наименьшей меры силы, распространяющийся и на познание. Познавать с наименьшей мерой силы — значит сводить неизвестное к известному через узнавание или подведение под общее понятие. Это совершенно обычная процедура, но Авенариус показывает, что в конечном итоге такое «апперципирование» влечет ум к объединению данных в каком-то одном высшем понятии. Философия помогает понять, каким может быть это высшее понятие, понятие мира или бытия. В нем не должно содержаться ничего, что не было бы непосредственно дано в опыте индивида. Между тем по ряду причин это понятие содержит немало посторонних примесей, искажающих представление о таком опыте. Задача философии состоит в «получении чистого опыта» (1: 50), избавлении его от «антропоморфических апперцепций» — наделения частей мира эстетической или этической ценностью, чувствами и волей, а также от приписывания вещам субстанциальности и каузальных связей. Правильное, т. е. очищенное понятие мира предполагает признание его содержанием ощущений, а формой — движения. Работа 1876 г. рассматривалась Авенариусом как пролегомены к «Критике чистого опыта», которую он задумывал как продолжение кантовской «Критики чистого разума». Кант, по мнению Авенариуса, показал, что опыт содержит немало привнесенных компонентов, но не проанализировал состав того, что остается после их устранения. Однако со временем Авенариус отказался от идеи эксплицировать содержание чистого опыта на основе «идеалистической» предпосылки о составленности этого опыта из ощущений и в «Критике чистого опыта» обратился к более «реалистическим» объяснениям. В этом туманном трактате он попытался раскрыть структуру чистого опыта на основе «эмпириокритического допущения»: «Любая часть среды стоит в таком отношении к человеческим индивидам, что если она предстала, то они заявляют о своем опыте» (2: 1, 1). Он акцентировал ключевую роль центральной нервной системы индивида (С) в опосредовании среды (R) и высказываний последнего о среде (Е), исходя из учения о «жизнеразности», т. е. несоответствия между индивидом и средой, возникающего при его выпадении из практически «идеальной среды» при рождении, и стремления системы «С» ликвидировать эту разность в целях самосохранения данной системы и индивида, которому она присуща. «Независимые жизненные ряды», возникающие в процессе его реализации, обусловливают «зависимые жизненные ряды» высказываний о среде, отражающие специфику процессов энергосберегающего самосохранения индивидов. Позже от спекулятивной биологии и биологизированной эпистемологии и психологии Авенариус обратился к попыткам уточнить механизмы и прояснить истоки замутнения чистого опыта. Сам по себе опыт не заражен ошибочными интерпретациями, но при попытках отрефлексировать его возникает множество ошибочных «вариаций». Самые серьезные негативные последствия имеет так называемая «интроекция». Интроекция — это «вкладывание «видимого» в человека» (4: 21), т. е. допущение, что непосредственные данности опыта, составляющие окружающую среду, есть субъективные, «внутренние» представления, сущностно отличные от представляемых вещей. Авенариус уверен, что несмотря на кажущуюся естественность интроекции она является «извращением» реального положения дел и порождает неразрешимые проблемы. Ведь если внешние вещи отличаются от внутренних представлений о них, то сразу возникает вопрос о точном местонахождении этих представлений. Если сказать, что это мозг, то остается непонятным, как процессы в мозге могут вызывать совершенно несходные с ними чувства и образы. Если же соотнести представления с особой духовной субстанцией, то как объяснить ее взаимодействие с телесными органами? Между тем, интроекция подталкивает к идее духа. Она усугубляет «антропоморфические апперцепции», о которых Авенариус писал в работе 1876 г., и порождает антропоморфическое рассмотрение самого человека (см. 3: 58), т. е. удвоение индивида, выделение в нем внутренней (духовной) и внешней (телесной) составляющей. Чтобы обнаружить скрытые ошибки, допускаемые людьми при интроекции, в «Человеческом понятии о мире» и продолжающей этот трактат работе «О предмете психологии» Авенариус предложил вернуться к дорефлексивному «естественному понятию о мире» и проанализировать его с точки зрения его универсальной структуры, не касаясь частностей соотношения его моментов, о которых шла речь в «Критике чистого опыта». Это понятие включает два существенных компонента: 1) «первоначально находимое», т. е. непосредственно данное, и 2) гипотетически примысливаемое к нему. Первоначально необходимое распадается на две части — Я и окружающую среду (Umgebung). Понятие Я, нетождественное понятию духовной субстанции, трактуется Авенариусом как совокупность различных состояний, включающих компоненты или движения «моего» тела, а также мысли и чувства, или аффекты. Важно, однако, что все состояния Я так или иначе связаны с окружающей средой или нацелены на нее. Но и сама эта среда не может быть помыслена без понятия Я. Даже когда мы представляем местность, на которую еще не ступала нога человека, нам «нужно так называемое Я, мыслью которого она была бы» (4: 14). Это обстоятельство позволяет Авенариусу выдвинуть тезис о «принципиальной координации» Я и окружающей среды, причем Я оказывается «центральным членом» этой координации, а составные части среды выступают в качестве «противочленов» (4: 14). Гипотетической же частью естественного понятия о мире является допущение «немеханических» аспектов жизни других людей. Хотя непосредственно люди даны нашему Я только в телесном облике, мы можем по праву предположить, что с этими механическими данностями, как и у нас самих, связаны определенные «чувства» и «мысли», складывающиеся в другие центральные члены принципиальной координации. Важно только не примысливать больше того, что мы находим в себе. Иными словами, если некий предмет дан нам как нечто находимое вне нас, то это надо допускать и по отношению к другим людям. На деле, не замечая непосредственно мыслей и чувств у других людей, мы допускаем, что они скрыты «внутри» их мозга, а затем и данность предметов трактуем в качестве «внутренних» представлений, субъективных образов последних (3: 26). Это и есть интроекция, искажающая естественное понятие о мире. Но такое искажение не может быть вечным. Вся история интеллектуальной культуры, считает Авенариус, подводит к устранению интроекции и вместе с ней реальной противоположности внешнего и внутреннего, духа и материи. Но избавление от интроекции делает актуальным уточнение предметов таких наук, как физика и психология. Подобно Маху, он утверждает, что психическое отличается от физического только точкой зрения. Психическими оказываются опытные данные, поскольку они рассматриваются как зависимые от нервной системы, образующей главное звено любого «центрального члена». Физическими же элементы опыта являются тогда, когда они рассматриваются в абстрагировании от «центрального члена». Сообразно этой классификации можно говорить о различных типах зависимости элементов — физической, психической и др. Наибольший интерес для философа представляет, конечно, вопрос о взаимозависимости «центрального члена» и противочленов, или Я и среды. Это связано с тем, что философия имеет дело с универсальными структурами опыта, а всеобщей формой всякого опыта является именно принципиальная координация Я и среды. Авенариус несколько двусмысленно высказывался о возможностях существования элементов среды без соответствующего «центрального члена». С одной стороны, он утверждал, что «центральный член» определяет элементы «противочленов», что исключает их независимое бытие, с другой — говорил о нумерическом тождестве этих элементов для разных «центральных членов» (при возможных качественных вариациях — см. 3: 82) и не оспаривал тезиса о существовании мира до человека, подробно рассуждая о «потенциальных центральных членах», связанных с «безжизненной материей». Эти тезисы кажутся несовместимыми, но Авенариус выходил из трудного положения, утверждая, что признание реальности мира до человека означает лишь, что он не отрицает, что при отнесении «центральныхчленов» в прошлые времена они увидели бы себя в окружении той первоначальной среды, которую реконструирует наука Философия Маха и Авенариуса, которых иногда объединяют под рубрикой «эмпириокритицизма», вызвала неоднозначную реакцию современников. Авенариус создал собственную школу, из которой, однако, не вышло значительных фигур. Мах оказал стимулирующее влияние на философов Венского кружка. Значительный интерес философия Маха и Авенариуса вызывала среди российских марксистов начала ХХ в. Моде на Маха и Авенариуса противостоял Ленин, доказывавший в «Материализме и эмпириокритицизме» (1909), что они являются наследниками «фидеизма» Беркли Э Гуссерль подверг критике принцип экономии мышления Маха и Авенариуса усмотрев в нем тенденцию релятивизации мышления и психологизации логических законов. В последнее время Мах привлекает внимание специалистов по эволюционной эпистемологии. Литература1.Авенариус Р. Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры силы. СПб., 1913. 2.Авенариус Р. Критика чистого опыта. Т. 1 - 2. СПб., 1907 - 1908. 3.Авенариус Р. Человеческое понятие о мире. М., 1909. 4.Авенариус Р. О предмете психологии. М., 2003. 5.Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 1908. 6.Мах Э. Познание и заблуждение. М., 2003. 7.Осипов В. И. Теория познания Э. Маха. Архангельск, 1999. 8.Ewald О. Richard Avenarius als Begrunder des Empiriokritizismus. B. 1905. 9.Raab F. Die Philosophie von Richard Avenarius. Lpz., 1912. Глава 8. НЕОКАНТИАНСТВО Неокантианство — одно из доминирующих течений в философской мысли Германии второй половины XIX — первой четверти ХХ в. Его возникновение можно условно относить к середине пятидесятых годов XIX столетия, когда Отто Либман провозгласил лозунг «Назад, к Канту!». В эволюции неокантианства выделяют три основных периода: 1) ранний; 2) классический; 3) поздний. К представителям раннего, или физиологического, неокантианства относят прежде всего Фридриха Альберта Ланге и Отто Либмана. Отсчет классического неокантианства ведут с семидесятых годов XIX в. до Первой мировой войны. К этому периоду относятся наиболее влиятельные направления неокантианства: Марбургская школа (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер) и Баденская школа (или Фрайбургская — В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Г. Кон, Э. Ласк). Для позднего неокантианства характерен отход от первоначальных идейных установок. С 80-х гг. XIX в. до начала I мировой войны неокантианство во все возрастающей мере влияет на культурные и политические процессы в Германии и других странах, становясь философским фундаментом ревизионизма идеологов II Интернационала (М. Адлер, Э. Бернштейн, К. Форлендер и др.) и связанных с ним политических партий и групп. Отто Либман (1840—1912) — один из инициаторов неокантианского движения. В 1865 году выходит в свет его работа «Кант и эпигоны», каждая глава которой заканчивалась выводом-призывом «Назад, к Канту!». Главной ошибкой Канта, по Либману, является признание им «вещи в себе». Анализируя системы философов после Канта, Либман приходит к выводу, что все они (даже отрицая «вещь в себе» на словах) на деле не смогли избавиться от этого «наваждения». Отсюда Либман делал вывод, что необходимо вернуться к Канту и попробовать заново разработать трансцендентальный метод, попытавшись избежать тех противоречий и непоследовательности, которые допустил Кант. После Либмана начинается тщательная и кропотливая работа по изучению кантовского наследия и его критическому анализу. В рамках ширящегося неокантианского движения стали дифференцироваться два различных направления интерпретации теоретической философии Канта. 1)«Трансцендентально-психологическое»: с точки зрения Канта, сознание познающего субъекта обладает определенной структурой, организацией, определенными формами, собственной закономерностью; отсюда делался вывод, что человеческое познание зависит от организации сознания познающего субъекта. В зависимости от того, как трактовалась эта организация, можно выделить два направления внутри этой первой тенденции: а)если структура сознания выводилась из организации психофизического организма человека, то изучением этой структуры должна заниматься физиология чувственного познания. К этому так называемому «физиологическому» направлению неокантианства принадлежали Гельмгольц и Ланге; б)если же организация сознания рассматривается на психологическом уровне, то мы имеем дело с трансцендентально-психологическим, в узком смысле слова, истолкованием Канта. Такое толкование развивала прежде всего Баденская школа неокантианства во главе с Виндельбандом и Риккертом. 2) Другое направление в истолковании кантовской философии представляла собой «трансцендентально-логическая» интерпретация: речь в данном случае идет о научном знании как оно существует в форме наук («в написанных книгах»). Задача теоретической философии с этой точки зрения заключается в том, чтобы выяснить логические основания, самые глубокие предпосылки этого знания. Марбургская школа С выхода в свет в 1871 году крупной работы Германа Когена «Кантовская теория опыта» можно вести отсчет первой относительно оформленной «школы» в рамках неокантианского движения. Задачей марбуржцев было очистить учение Канта от догматизма и трансцендентально-психологической тенденции и, развивая тенденцию трансцендентально-логическую, выявить в чистом виде трансцендентальные принципы «всякого познания», которое, с их точки зрения, выражалось в системе наук. Герман Коген (1842—1918) — основатель и главный теоретик Марбургской школы. Как и другие неокантианцы, главную ошибку кантовской теории познания видел в признании реальности «вещей в себе». Во-первых, по Когену, кантовская «вещь в себе» — противоречивое понятие: а)«вещь в себе» якобы существует вне сознания; но сознание — не пространственная категория, поэтому существование вне сознания немыслимо в пространственном отношении; б)«вещи в себе» приписывалась Кантом функция аффицирования чувственности. Но это аффицирование немыслимо как причинное воздействие, потому что вещь в себе лежит полностью по ту сторону плана явлений; всякое явление причинно обосновывается лишь из других явлений; в)сама «реальность» у Канта — это категория рассудка, и поэтому неприменима к вещам в себе, потому что они не входят в сферу применимости понятий рассудка — в план явлений. Во-вторых, вещь в себе, по Когену, — неоднозначное понятие, имеющее в каждой из трех частей «Критики чистого разума» различные значения, не связанные общей основой: «аффицирующее начало», «пограничное понятие» и «трансцендентальный объект». Устраняя вещь в себе из кантовской теории познания, Коген прослеживает все вытекающие из этого следствия. Главное из них — без вещи в себе становится бессмысленным различение интуиции (созерцания, Anschauung) и мышления; соответственно, пространство и время, бывшие у Канта «априорными формами созерцания» — получают статус категорий. В таком случае чувственность не может быть, как считал Кант, источником содержания мышления. Коген подвергает разрушительной критике познавательную ценность чувств. Традиционно, начиная с древности, чувственность считалась «органом» для постижения единичного, наряду с разумом, который предназначен для схватывания общего. По мнению Когена, ощущение чувств не может дать нам даже знания единичного: «Как может ощущение гарантировать единичное, когда сама чувственность расчленена на 5 различных чувств?» «Ощущение не может давать объективное содержание хотя бы потому, что на всякое раздражение определенный орган отвечает одним и тем же содержанием, согласно закону специфической энергии ощущения» (14, 464 — 465). «Решающей инстанцией» Коген считает пример электричества и магнетизма, которым не соответствует никакое человеческое ощущение, что не мешает наукам полагать эти понятия в основание научной картины мира. Как же в таком случае действительность может основываться на ощущении? «Звезды существуют не в небе, а в учебниках астрономии». Главная задача, которую Коген ставит перед теорией познания, — исследовать научное знание (как оно существует «в написанных книгах») и выявить лежащие в основе необходимых предпосылок науки элементы познающего сознания. Но отрицание познавательной ценности чувств ставит перед Когеном острейшую проблему — проблему обоснования объективности нашего познания. Хотя речь о соответствии мысли «объекту» в обычном смысле уже не шла, проблема не исчезла, а только приняла другую форму — что делает необходимыми наши суждения? «Это самое сильное подозрение, с которым можно столкнуться в опыте природы: что он, со всей необходимостью, заключающейся в его основаниях, является сам по себе случайным» (ibid). Коген предпринимает неоднократные попытки обоснования этой необходимости, в частности, вводя в теорию познания наряду с синтетическим единством суждений естественных наук также систематическое единство наук биологических, но сам сознает, что окончательно устранить элемент случайности, субъективности ему не удалось. Окончательным итогом этих поисков стало выдвижение Когеном принципа «Первоначала», которое есть простейший акт связи, осуществляемый сознанием. Это первоначало остается необъяснимым и в этом смысле «случайным», зато все содержание знания следует из него с необходимостью. По форме и по сути это Первоначало уже близко акту Божественного произвола. В конце жизни Коген действительно, приходит к осознанию, что без концепции Бога невозможно непротиворечиво мыслить природу как целое, а также нравственный закон человеческой жизни. Пауль Наторп (1854-1924) — ученик, затем сотрудник Г. Когена в Марбургском университете. В сравнении с другими неокантианцами Наторп больше внимания уделял разъяснению и, если угодно, пропаганде учения неокантианства. Наряду с философией он работал в области психологии и социальной педагогики. Для неокантианского движения наибольшее значение имеют его работы «Платоновское учение об идеях» (1903) и «Логические основания точных наук» (1910). Говоря о неокантианстве, обычно имеют в виду ту его редакцию, которую дал Наторп в своих разъясняющих работах (таких как «Философская пропедевтика»), докладах и статьях. Главный предмет разъяснений Наторпа — поставленная Когеном двоякая проблема: как без вещи в себе обосновать необходимость и объективность нашего познания и, с другой стороны, в чем гносеологическая ценность ощущений.Согласно Наторпу, предмет познания в науке в отличие от «естественного познания» — не вещи как субстанции («вещи в себе»), а «изменения и отношения». Для Наторпа наука — это не совокупность «написанных книг», как для Когена, а метод, соответственно, процесс ограничения неограниченного. «Предмет, который устанавливает научное знание, разрешается в потоке становления» (15:12). В отличие от классической точки зрения, восходящей к Аристотелю, «трансцендентальная философия, отрицая всякую данность, считает предмет заданным, это — X, нечто неопределенное, которое нужно определить: оно неопределенное, но определимое». Абсолютное познание предмета, т. е. полное определение неопределенного — недостижимый идеал научного знания, предельная цель науки. Эта цель и есть «вещь в себе». По Наторпу, «материя познания» — не извне приходящее через чувства содержание познания, но лишь «наличная возможность всякого определения». «Ощущение — ...то, что делает определимым каждый момент времени и каждую точку пространства» (3:25). Остается, однако, не вполне ясным, откуда ощущения берут многообразие своего содержания? По сути, налицо сведение всего предмета познания к формальным определениям: среди них выделяются необходимые, составляющие «форму» в старом смысле слова, и случайные, составляющие то, что раньше считалось «содержанием» познания. О происхождении этого «случайного» содержания Наторп не мог сказать ничего определенного, кроме того, что оно не исходит извне сознания. Перед тайной индивидуального неокантианство Марбургской школы оказывается бессильным. Эрнст Кассирер (1874—1945) — младший представитель Марбургской школы. В своих поздних работах стал развивать «философию символических форм», которую уже нельзя отнести к неокантианству. Наибольшее значение для неокантианского движения имел гносеологический труд Кассирера «Познание и действительность». Здесь Кассирер ставит проблему образования понятий: исследуя, как именно на самом деле образуются общие понятия науки, — установить, возможен ли индуктивный метод, который позволил бы получить не только вероятностное, но научно достоверное знание. Традиционная концепция образования понятий, восходящая к аристотелевской логике и метафизике, предполагает, что мысль, выражаемая посредством понятий, должна согласовываться с вещами вне нас, чтобы быть истинной. Понятиям здесь соответствуют объективные качества и свойства вещей. В неокантианстве сам предмет есть коррелят познавательного акта, соответственно, с точки зрения Кассирера, понятие не отражает, а преобразует действительность. В науках, «когда мы начинаем следить за возникновением этих понятий, мы находим тот же процесс преобразования конкретно-чувственной действительности, которого не в состоянии объяснить традиционное учение; и здесь эти понятия представляют собой не просто копии наших восприятий, а ставят на место чувственного многообразия другое многообразие, удовлетворяющее определенным теоретическим условиям» (5:25-26). Главное в понятии — «создаваемое им посредством закона координирования отношение необходимости, а не родовая форма». Это «отношение необходимости» устанавливается, по Кассиреру, не родовой формой, а принципом ряда, по образцу формул математической индукции. Достаточно задать первый член ряда и формулу (или алгоритм), чтобы с математической необходимостью получить все множество, составляющее объем понятия (напр., «простое число»).Общую для неокантианцев проблему объективности научного познания Кассирер вновь пытается снять, объявив «метафизической». Метафизика разделяет и субстанциализирует то, что разделимо лишь в мысли, — разделяет единую систему опытного знания на мышление и бытие, соответственно, «субъект» и «объект». Понятие «объективного» обладает лишь относительным значением. «...Различные частичные выражения одного и того же полного опыта служат взаимно друг другу масштабом. Каждому частичному опыту задается поэтому вопрос, каким значением он обладает для всего целого, и это-то значение и определяет меру его объективности» (5:357). «Не чувственная живость впечатления, а это внутреннее богатство отношений придает ему (содержанию сознания) признак подлинной объективности» (5:363). Баденская школа Во второй половине XIX в. особенно остро встала проблема методологической автономии наук о духе. Во-первых, это было вызвано быстрым развитием относительно молодой исторической науки. Во-вторых, еще более бурное развитие естественных наук привело к попыткам распространить метод математического естествознания и на историю. Но результат этих исследований был настолько неудовлетворителен, что вызывал сомнение, способна ли вообще история соответствовать «образцу научности». Задачу методологического обоснования наук о духе взяли на себя представители Баденской школы неокантианства. Вильгельм Виндельбанд (1848— 1915) в своей речи при вступлении 1 мая 1894 г. в должность ректора Страсбургского университета, изданной под названием «История и естествознание», провозгласил «манифест» Баденской школы неокантианства. Разделение наук на основе устаревшего предметного принципа разграничения принесло, по Виндельбанду, большой вред. Во-первых, философия, при таком подходе, растворяется, с одной стороны, в истории философии, с другой — в психологии, так как весь ее «предмет» изучается более конкретными науками. Этот предметный метод классификации наук должен быть заменен методологическим, который опирается прежде всего на «формальный характер познавательных целей наук». С этой точки зрения, науки делятся, во-первых, на рациональные и эмпирические. К рациональным дисциплинам относятся философские и математические. Общий для них материальный признак — то, что они не направлены непосредственно на познание явлений опыта; формальный признак — что они не основывают свои суждения на восприятиях. Эмпирические науки, напротив, устанавливают факты путем восприятия. Эта классификация, по Виндельбанду, несовместима с общепринятым делением наук на науки о природе и науки о духе. Противопоставление природы и духа не соответствует действительной противоположности методов и целей познания. Особенно ярким примером недействительности предметного принципа разделения является научная психология, которая к исследованию «духовных» феноменов прилагает методы естественно-научного познания. Методологическое разграничение, освобожденное вполне от материального принципа деления, заключается в том, что «...одни из них ищут всеобщие законы, другие — частные исторические факты...» (6:12). «...Цель одних есть общее, аподиктическое суждение, цель других — единичное, ассерторическое предложение» (там же). Научное мышление в первых дисциплинах имеет Номотетический («законополагающий»), во вторых — идиографический («описывающий индивидуальное») характер. Материальное деление наук с точки зрения этого принципа оказывается относительным: одни и те же предметные области допускают и Номотетический, и идиографический подход. В методологии науки, по Виндельбанду, все еще безраздельно господствует Номотетический метод. Между тем идиографические науки также нуждаются в методической теории, согласно которой эти факты упорядочивались бы в соответствии с общими предположениями этих наук. Задача методологического обоснования истории требует прежде всего сформулировать такое понимание научности, которое включало бы в себя исторические науки в их своеобразии. В трактовке Виндельбанда, принцип эмпирических наук везде — и в истории, и в естествознании —· один и тот же: «полное согласие всех элементов представления, касающихся одного и того же предмета» (6:15). Различие заключается в способе познания индивидуального. Естествоиспытатель (и психолог) если и рассматривает отдельный предмет, то лишь постольку, поскольку он может играть роль представителя некоего рода объектов. Задача историка иная — постичь индивидуальное именно как индивидуальное, в его неповторимости. Для этого он должен «вновь воскресить в форме идеальной действительности картину прошлого, во всех ее индивидуальных чертах» (там же). Историк, по Виндельбанду, выполняет ту же задачу, что и художник. Законы, выражающие постоянную природу вещей, Виндельбанд сравнивает с «рамой», внутри которой «развертывается живая связь всех ценных для человека единичных проявлений, в которых воплощаются общие формулы» (6:23). Но из общих формул никогда нельзя было бы заключить к конкретному событию. Соотношение между законом и событием (а также между общим и единичным) — до сих пор не решенная задача в философии. «На самом деле никакое мышление не в состоянии дать дальнейшего разъяснения по этим вопросам... Закон и событие продолжают оставаться друг возле друга как последние, несоизмеримые величины в нашем миропредствлении» (6:25). Генрих Риккерт (1863 — 1936) — ведущий теоретик Баденской школы. Работал над осуществлением методологической программы, намеченной Виндельбандом. Основные произведения: «Предмет познания. Введение в трансцендентальную философию» (1892); «Науки о природе и науки о культуре» (1899). В работе «Науки о природе и науки о культуре» Риккерт ставит задачу обоснования методологии гуманитарного знания. Для этого, как и Виндельбанд, он ищет новое определение природы научности, которое включало бы в себя гуманитарные науки с их своеобразием. В этом вопросе Риккерт, как и Кассирер, исходит из того, что научные понятия не отражают, а преобразуют действительность. Природа научности состоит в том, что научные понятия, преобразуя действительность, выделяют существенное в явлениях. Методы наук различаются в том, какие основания принимаются в расчет при выделении существенного в явлениях. В науках о культуре главным основанием является возможность произвести для данного явления процедуру «отнесения к ценности». Поэтому объективность в этих науках может основываться лишь на объективности ценностей и не может апеллировать к физической данности культурных объектов. Ценности — особый род объектов, которые не «существуют», но значат.Действительность, по Риккерту, представляет собой разнородную непрерывность: наши понятия не отражают, а активно преобразуют, конституируют «действительность для нас»; если понятия «прерывают непрерывность», то логически необходима непрерывная действительность как их основа. Упорядочение разнородной непрерывности может осуществляться, по Риккерту, двумя способами: 1) отвлечение от разнородности и установление однородности с сохранением непрерывности, либо 2) прерывание непрерывности с сохранением разнородности. Первый метод, дающий понятия однородных непрерывностей, по Риккерту, наиболее эффективен в математике. Второй призван схватывать в действительности индивидуальное и неповторимое. Риккерт подвергает критике естественно-научный метод образования понятий. Содержание научного понятия «состоит из так называемых законов, т. е., из безусловно общих суждений относительно более или менее широких областей действительности» (9, 66). Всеобщие законы и принципы, устанавливаемые в науках, являются столь же неотъемлемой «частью» действительности, как и единичное явление. Но как только естественно-научный метод начинает применяться для постижения единичных явлений именно как единичных — прежде всего объектов культуры и истории, — его действенность тут же оборачивается против его предмета, уничтожая в нем самое существенное — индивидуальную значимость. Именно этот разрушительный эффект использования естественно-научного метода и вызвал необходимость в обосновании методологической автономии наук о культуре и вообще поднял на «борьбу за трансцендентальное» лучшие умы Старого Света. Литература1.Ланге Ф. А. История материализма и критика его значения в настоящее время. СПб., 1899. 2.Наторп П. Логика. СПб., 1910. 3.Наторп П. Философская пропедевтика. М., 1911. 4.Наторп П. Кант и Марбургская школа // Новые идеи в философии. Сб. 5. СПб., 1913. 5.Кассирер Э. Познание и действительность. СПб., 1912. 6.Виндельбанд В. История и естествознание. М., 1901. 7.Виндельбанд В. Прелюдии. СПб., 1904. 8.Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия. М., 1993. 9.Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. 10. Риккерт Г. 10.Философия жизни. Киев, 1998. 11.Бакрадзе К. С. Избранные философские труды. Т. III. Тбилиси, 1972. 12.Олейник А. В., Щетников А. И. Философско-психологические воззрения 13.Марбургской школы. Новосибирск, 1999. 14.Сеземан В. Е. Теоретическая философия Марбургской школы // Новые идеи в философии. Сб. 5. СПб., 1913. 15.Cohen H. Logik der Reiner Erkenntnis. Berlin, 1922. 16.Natorp P. Logische Grundlagen des Exakten Wissenschaften. 1910. Глава 9. НИЦШЕ Фридрих Ницше родился в 1844 г. в местечке Реккен в Тюрингии (Пруссия). Отец — протестантский священник из польских дворян, чем объясняется необычная фамилия (считается, что ее польский вариант — Ницке). После смерти отца и младшего брата в 1850 г. мать с Фридрихом и его сестрой Элизабет перебралась в Наумбург. Здесь Фридрих поступил в школу, с 1858 г. учился в гимназии Пфорта и дружил с будущим исследователем веданты Паулем Дойсеном, затем изучал теологию и филологию в университете Бонна в 1864 г. и переехал в Лейпциг в 1865 г., чтобы послушать семинары известного филолога Ричля и совершенствоваться в музыке. В Лейпциге он познакомился с работами Шопенгауэра, которые оказали на него колоссальное влияние. Во время учебы Ницше начал сотрудничать с «Центральной литературной газетой». Несмотря на освобождение по причине близорукости, в 1867 г. Ницше был зачислен в артиллерийский полк в Наумбурге, где отслужил год и был освобожден из-за травмы. В это время Ницше начал публиковаться в «Рейнском научном журнале». На основе статей 1867— 1868 гг. Ричль порекомендовал Ницше на место экстраординарного профессора классической филологии в Базельском университете и содействовал присуждению ему без защиты докторской степени. Сильное влияние на Ницше оказал выдающийся немецкий композитор, мыслитель, поэт Рихард Вагнер (1813—1883), с которым он познакомился в 1868 г. и сблизился, несмотря на большую разницу в возрасте, в 1869 г., когда он приступил к своим преподавательским обязанностям в Базеле и стал постоянно навещать Вагнера в Люцерне. Несмотря на освобождение от прусского гражданства, Ницше в 1870 г. отправился в качестве санитара на Франко-прусскую войну, однако через месяц он заразился от раненых дизентерией и дифтеритом и, чудом выжив, вернулся к преподавательской деятельности. В 1872 г. был реализован совместный с Вагнером проект Байрейтского театра. Разрыв отношений с Вагнером происходит (с осени 1876 г., а окончательный разрыв — в январе 1878 г.), по официальной версии, из-за изменения мировоззренческих позиций Вагнера и появления религиозных мотивов в его музыкальных произведениях (это, как считают, проявилось позже в «Парцифале», 1882 г.). В этот же период у Ницше возникают серьезные проблемы со здоровьем, его постоянно мучают сильные головные боли, это заставляет его с 1876 г. перемещаться по итальянскому побережью, альпийским высокогорным пансионам в поисках более подходящего по климату места и в конце концов вынуждает окончательно уйти с профессорской должности в 1879 г.В 1882 г., когда он переживает краткий период романтической любви-дружбы с Лу фон Саломе, наступает улучшение его физического состояния: это «Веселая наука». Затем настает душевный кризис — и «Так говорил Заратустра», где, как он сам считал, сумел найти свой путь — то, что Ницше называл «методом», — и сформулировать идеи, которые он считал своими основными философскими открытиями. 3 января 1889 г. в Турине с ним случается первый из трех апоплексических ударов, резкое ухудшение состояния здоровья приводит Ницше к сумасшествию, и 10 января его помещают в психиатрическую клинику Базеля, затем в психиатрическую клинику Йенского университета. Этиология заболевания так и не была установлена. В 1890 г. мать забирает Ницше домой в Наумбург, надеясь на выздоровление сына, затем сестра, вернувшаяся из Парагвая после самоубийства мужа, перевозит больного Ницше в Веймар, где он умирает в 1900 г. Периодизация творчества Ницше. Сочинения Ницше по стилю и тематике отражают важнейшие этапы его жизненного пути и мировоззренческой эволюции, которые он сам оценивает в своих последних работах, прежде всего в «Ecce homo». Его сочинения принято относить к трем периодам. И это не только хронологическое, но и аналитическое деление. Как пишет Ницше в «Так говорил Заратустра»: «Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком становится лев. [...] дух становится, как верблюд, на колени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его [...] здесь львом становится дух, свободу хочет он себе добыть и господином быть в своей собственной пустыне.[...] Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения. [...] Своей воли хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир»(1: 2, 18—19). К первому — получившему у исследователей условное название «вагнеровского» или «шопенгауэровского» — периоду относятся «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «О пользе и вреде истории для жизни» (1874), «Шопенгауэр как воспитатель» (1874), «Рихард Вагнер в Байрейте» (1875— 1876), «Несвоевременные размышления» (1873— 1876). Ко второму периоду — периоду интеллектуального поиска самостоятельного пути и интереса к различным философским концепциям и научным теориям — относятся «Человеческое, слишком человеческое: Книга для свободных умов» (1876—1878), «Утренняя заря» (1881). К третьему периоду относят следующие произведения: «Веселая наука» (1882), «Злая мудрость: Афоризмы и изречения» (1882 — 1885), «Так говорил Заратустра: Книга для всех и для каждого» (1881 — 1885), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Генеалогия морали» (1887), «Сумерки идолов» (1888), «Ecce homo» (1888) и др. Последние работы, написанные осенью 1888 года, даже получили специальное обозначение у исследователей — произведения периода катастрофы. «Странник и его тень», «Антихрист», «Ницше contra Вагнер» (1895) выходят уже во время болезни Ницше, сам он считал их публикацию несвоевременной. Первое полное собрание сочинений Ницше подготавливается в 1892 г. его другом Петером Гастом с согласия матери, но затем все права приобретает сестра Элизабет Ферстер-Ницше (1846— 1935), основывает в 1894 г. Архив Ницше и издает в том же году второе издание собрания сочинений, в котором П. Гаст не участвует, а в 1899 г. — третье. В двенадцатый том (1901) включается работа «Воля к власти» — неаутентичная компиляция дневниковых и черновых заметок Ницше, которые его сестра структурирует во многом под влиянием профашистских идей своего мужа (показательным считается тот факт, что редактор, с которым работал Ницше при жизни, демонстративно порывает с Архивом после выхода этого тома). Именно активная деятельность Архива (в 1933 г. его посещает Гитлер и получает в подарок из рук сестры личную трость Ницше) способствует распространению профашистской интерпретации наследия Ницше и его философии в целом, что привело к бойкоту философии Ницше после Второй мировой войны вплоть до 50-х гг. Первый период. Для первых философских работ Ницше характерно непосредственное обращение к материалу, который он очень хорошо знал как филолог, —к материалу культуры Древней Греции. Главной целью работы «Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм», как пишет Ницше в предисловии, обращенном к Вагнеру, становится убеждение в «высочайшей жизненной задаче искусства, этой собственно метафизической деятельности человека» (3: 64). В отличие от традиционного толкования древнегреческой культуры как рациональной, оптимистичной, радостной Ницше видит ее жизнеутверждающую силу в трагедии и находит соответствующий ей язык в музыке, опираясь прежде всего на философию воли Шопенгауэра и на страстную музыку Вагнера. Именно трагическая культура становится для Ницше тем идеалом культурных ценностей, который соответствует сущности человека и его естественной склонности. «Поступательное развитие искусства», которое понимается как поиск соответствующего языка выражения воли и противопоставляется традиционному историческому взгляду на прогрессивное развитие искусства, Ницше связывает «с двойственностью аполлонийского и дионисийского» (3: 64). Он указывает на то, что «в греческом искусстве существует стилистическая противоположность: два различных влечения идут в нем рядом друг с другом, по большей части в расколе между собою и взаимно побуждая друг друга ко все более крепким порождениям, в которых увековечивается борьба названной противоположности, — пока наконец, в момент цветения эллинской «воли», не сливаются они воедино, дабы совместно произвести на свет художественное творение — аттическую трагедию» (3: 65 — 66). Ницше увидел возможность рождения трагедии в вагнеровском проекте Байрейта: «не разрубать гордиев узел греческой культуры, как это сделал Александр, так что концы его развеялись по всем направлениям мира, но связать его, после того как он был разрублен, —вот в чем теперь задача. В Вагнере узнаю я такого анти-Александра» (1: 2, 790). Развивая идеи Шопенгауэра о представимом мире как сновидении, Ницше описывает Аполлона как «прекрасную кажимость сновиденческих миров» (3: 66), которого, соответственно, «хочется [...] назвать великолепным божественным образом principii individuationis» (3: 68). Аполлонийские искусства — прежде всего пластические — главным своим предметом делают отдельное явление, возвеличивают его. Культ Диониса не столь прекрасен, его радость — в грубом страдающем наслаждении, в разгуле страстей, «в похмелье», дионисийское начало, по мысли Ницше, возвращает человека к непосредственной мировой гармонии, здесь снимаются все ограничения: «всякий чувствует — он не просто примирен с ближним своим, не просто един, не просто слит с ним, он стал с ним одно, будто разорвалась пелена Майи и лишь обрывки ее развеваются пред таинственным пра-Единым» (3: 70).Именно дионисийское начало заявляет о себе языком музыки, которую Ницше вслед за Шопенгауэром определяет как «язык воли» (3: 158), музыка рождает самый значительный миф — трагический. Так дионисийское начало воздействует на аполлонийскую художественную культуру. Миф сначала доставляет удовольствие своим представлением подобия мира — это сфера аполлонийской кажимости, затем это более высокое наслаждение от уничтожения этого мира кажимости. Только трагический миф, когда Аполлон начинает говорить на языке Диониса, может выразить вечность жизни: «только дух музыки позволяет нам уразуметь радость, испытываемую от уничтожения индивида. Ибо отдельные примеры такого уничтожения лишь проясняют для нас вечный феномен дионисийского искусства, что выражает всевластие воли как бы позади всякого principii individuationis, вечную жизнь — по ту сторону любого явления и невзирая ни на какую гибель и уничтожение. Метафизическая радость от трагического — это перевод инстинктивной, неосознаваемой дионисийской мудрости на язык образа: герой, это наивысшее явление воли, отрицается к удовольствию нашему — он только явление, и вечной жизни воли его уничтожение не затрагивает» (3: 159— 160). Ницше развивает идею Шопенгауэра о том, что музыка — непосредственный образ Воли. Воля играет сама с собой, радуется и созидает. Таким образом, Ницше определяет дионисийское начало как подоснову мира, как призвание человечества, которое лучше всего выражено в музыке и трагическом мифе, — как следствие, они лежат в основе замыслов аполлонийской художественной культуры, всех наших представлений о мире: «это дионисическое подполье мира может и должно выступать как раз лишь настолько, насколько оно может быть затем преодолено аполлонической просветляющей и преображающей силой, так что оба этих художественных стремления принуждены, по закону вечной справедливости, развивать свои силы в строгом соотношении» (1: 1, 156). Соединение одного и другого в трагедии позволяет принять мир в его страшной, ужасающей целостности, судьба трагического героя показывает относительность ценности отдельного существования. В этой работе Ницше предпринимает и первое критическое наступление на современную культуру. Ее неподлинность — в увлечении аполлонийским началом, доверием к научным представлениям и оптимизме. Эта культура, которую Ницше называет сократически-александрийской, изживает себя и свидетельством тому он считает состояние образования. Оно поверхностно, чрезмерно логично и рассудочно. Ницше ищет тот момент, когда гармоничная аттическая культура вдруг стала ущербной, переориентировалась исключительно на аполлонийское начало. Он связывает этот момент с так называемым «переворотом» Сократа и представляет здесь свое понимание фигуры Сократа и ее значения в истории культуры и философии. Именно дерзкая рассудочность Сократа разложила афинское общество: подчинение истины логической процедуре диалогического спора, даже если Сократ называл это искусством майевтики, лишало ценности естественное вдохновение, это был труд — и труд переставал быть унизительным уделом рабов, — все это в конечном счете подтачивало телесные и душевные силы греков. Именно Сократ «изгнал музыку из трагедии»: главной целью культуры стало универсальное рассудочное познание и просвещение, призванное одновременно научить истине и добродетели каждого. Однако «пустынное море знания» истощает жизненные силы. В «Опыте самокритики» (1886), которым Ницше предваряет новое издание этой раннейработы, он пишет, что ему удалось схватить «нечто страшное и опасное, — проблема рогатая [...] это была проблема самой науки — наука, впервые понятая как проблема, как нечто, достойное вопроса» (1:1, 49). Как считает Ницше, современная наука уже убеждается в ограниченности возможностей теоретического разума, сократический человек уходит из культуры — появляются философские победы Канта и Шопенгауэра, появляется немецкая музыка от Баха к Бетховену и Вагнеру — возрождается трагедия, трагическое миропонимание и трагический тип человека. В «Несвоевременных размышлениях» Ницше посвятит критике музыки Штрауса и философского историзма Гегеля и Гартмана специальные разделы, выделив пессимизм Шопенгауэра, а в качестве идеала творчества — музыку Вагнера. «Возрождение трагедии» — цель всей философии Ницше, которую он формулирует в заключении «Рождения трагедии...»: «Теперь же следуй за мною к трагедии и соверши со мною жертвоприношение в храме одного и другого Бога!» (3: 215). Второй период. И Ницше, как он сам напишет в позднем предисловии (1886) «изобретает» «свободные умы» — тех, кто сможет не только понять, но и реализовать этот своеобразный проект «дополуденной философии»(1: 1, 488) очищения человека, — к ним обращена работа «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов». На этом основании возникает оценка этого периода философии Ницше как рационально-оптимистического. Он пишет о странниках, обладающих свободным духом, преодолевающих застывшие убеждения. По его же более поздней оценке именно здесь возникает идея: «Нельзя ли перевернуть все ценности? [...] И если мы обмануты, то не мы ли, в силу того же самого, и обманщики ?» (1: 1, 235). Девять разделов посвящены тем ценностям, из которых складывается на сегодняшний день понимание «человеческого»: то, что человек считает своим достижением в познании мира, то, что он относит к сфере морали, религии, то, что он называет творчеством и культурой, то, что он ценит в других людях и на чем строит семью, как понимает государство и самого себя. Основой рассуждений становится учение об аффектах —- «из страстей вырастают мнения, косность духа превращает последние в застывшие убеждения» (1: 1. 488). Следует пересмотреть эти убеждения, убедиться в их недостоверности и относительной вероятности, как пишет Ницше, и «изменить» им. Третий период. Какими должны быть правила этого изменения — этому посвящена работа «Веселая наука». Ницше взял одно из самоопределений поэзии трубадуров, предполагающей вечно юную любовь без ревности и печали — gaya scienza. Здесь Ницше использует образ песочных часов для обозначения идеи возвращения, здесь впервые упоминает Заратустру, сверхчеловеческое, смерть Бога, здесь формулирует задачу переоценки ценностей и целый ряд значимых образов, которые позже становятся предметом отдельных работ. Так, например, в поэтическом приложении «Песни принца Фогельфрая», где очень много автобиографического, Ницше пишет: «Здесь я засел и ждал, в беспроком сне, По ту черту добра и зла, и мне Сквозь свет и тень мерещились с утра Слепящий полдень, море и игра. И вдруг, подруга! Я двоиться стал — И Заратустра мне на миг предстал...» (1: 1, 718). Именно эта работа оказывается пробой нового стиля — семантической игры, предполагающей глубокое проникновение, вслушивание в смысл слов, их сочетание, их воздействие. Как считают исследователи, эта работа повлияла на всю «игровую» тематику философии ХХ в.: от И. Хейзинги, Л. Витгенштейна и М. Хайдеггера до М. Фуко, Ж. Делёза и Ж. Деррида. Причем Ницше не только реализует этот стиль в тексте, но в последней части работы описывает его как новый идеал, «причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонить, ибо ни за кем не признаем столь легкого права на него: идеал духа, который наивно, стало быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; [...]; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит нечеловеческим, [...] — только теперь [...] начинается трагедия...» (1: 1, 708). В этой работе наиболее очевидна тематическая и стилистическая последовательность философского развития Ницше. Темы, которые подвергаются пародии, многочисленны: афористичная форма изложения позволяет касаться проблем сознания и самосознания, походя замечая, например, что «развитие языка и развитие сознания (не разума, а только самоосознания разума) идут рука об руку» (1:1, 675), философского осмысления воли (здесь Ницше окончательно размежевывается с Шопенгауэром, считая, что он «верил в простоту и непосредственность всякого воления, — в то время как воление есть лишь хорошо налаженный механизм, что почти ускользает от наблюдающего глаза» (1: 1, 594), каузальности (как «последствия древнейшей религиозности» (1:1, 593), и, разумеется, морали и религии, которые станут в дальнейшем предметом специального рассмотрения. Отдельно следует сказать о фрагменте, содержательно, эмоционально и стилистически выделяющемся из всей работы, — «Безумный человек» — именно здесь провозглашается знаменитое ницшевское «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы убили его!» (1:1, 593). В истории философии существуют диаметрально противоположные интерпретации этого тезиса: христианские и атеистические. Особое место занимает интерпретация этого тезиса М. Хайдеггером (14). Но как обвинения Ницше в атеизме, так и предположения о создании новой религии, заигрывающей с манихейством, не учитывают критический пафос философии Ницше в целом: он пишет о состоянии современного духа и пытается направить его к живому идеалу: «Разве величие этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!» (1:1, 593). Здесь следует отметить прежде всего идею смены человеческих ориентиров, переживания перестройки мировоззрения на том же человеческом еще основании — отсюда возникает эта «вера в неверие», перекликающаяся с идеями и образами Достоевского. Другой вопрос — готов ли к этому человек: «Я пришел слишком рано [...], мой час еще не пробил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам — весть о нем не дошла еще до человеческих ушей» (1:1, 593). Поэтому смерть и опустошение оборачиваются возможностью отказа от всего, навязанного человеку извне и укорененного в коллективном сознании, — возможностью переоценки ценностей. В предисловии ко второму изданию Ницше подчеркивает именно эту задачу, он выздоравливает сам и «ждет» «философского врача», который будет «рассматривать все эти отважные сумасбродства метафизики, в особенности ее ответы на вопрос о ценности бытия, как симптомы определенных телесных состояний»(1: 1, 494). Критика, «сатурналии духа» наполнены в этой работе «предчувствием будущего», воплощением которого станет Заратустра.«Так говорил Заратустра» — книга, считающаяся поворотной в философской биографии Ницше. Прежде всего по стилю, который апеллирует непосредственно к сопереживанию и эмоциональному восприятию тех значений, от первой части к четвертой все более личных, которые Ницше считал своими важнейшими открытиями. Он пишет ее урывками, очень быстро и издает частями, причем четвертая часть, пародийно напоминающая сюжеты вагнеровского «Парсифаля», была издана, действительно, как гласит подзаголовок, как «книга для всех и ни для кого» — в количестве 40 экземпляров, из которых роздано было семь. Каждая часть собрана из притч, начинается, по правилам греческой риторики, с приглашения к теме, с конкретной истории, с личного опыта Заратустры, и заканчивается патетической заповедью и завершением крута: «Так говорил Заратустра». Именно к этому произведению прежде всего относится характеристика философии Ницше как музыки и танца. Истины излагаются как откровения, но смысл этих откровений коренится не столько в непосредственном и общеупотребимом значении слов, сколько в ритме соединяемых в предложения слов, в их фонетическом созвучии и их полисемантичности. В центре работы — фигура Заратустры, которую Ницше «открывает» для себя еще в «Веселой науке»: пророк Авесты, как считается, реальное историческое лицо. Суть его проповедей с точки зрения традиции — в идее особой мироупорядочивающей роли человеческого выбора. Как считают многие исследователи, Ницше часто отождествляет себя с Заратустрой: он столь же одинок и переполнен богатством воли и любви, о которой нельзя рассказать толпе равных перед Богом людей. Это не покинутость, это потребность в вольном воздухе — жизненная самодостаточность, которая тоже открывается самому Заратустре не сразу: он сначала идет к людям. Воля к власти. Заратустра описывается через волю, а точнее через волю к власти. Терминологически Ницше нигде не дает развернутого определения воли в власти. Хотя уже в «Рождении трагедии из духа музыки» он писал, что только в Афинах осмеливались говорить о воли к власти. В произведениях Ницше последнего периода этот термин встречается чаще других. Воля как объяснение всего совершающегося становится для Ницше своеобразным структурирующим принципом по отношению к другим его идеям. Во всех проявлениях жизни — «пафос» воли к власти, который несводим к философским категориям становления, развития, бытия. Именно поэтому идея воли к власти спровоцировала разнообразные интерпретации и легла в основу компилятивного произведения «Воля к власти». В нем собраны различные определения воли к власти, написанные Ницше, видимо, на протяжении всей жизни. У Ницше, действительно, был проект работы, посвященной переоценке ценностей, который должен был состоять из четырех частей. Однако контекст работы по сути отождествляет волю к власти «Will zur Macht» с волей властвовать, господствовать «Will der Macht», что не соответствует контексту работ, изданных при жизни философа. Суть воли — в ее стремлении к мощи, к утверждению жизни. Кстати, есть именно такой русский перевод термина: «воля к мощи». Именно так понимал Ницше, например, Хайдеггер, отмечая в работе «Европейский нигилизм», что воля к власти — это не стремление захватить власть. Главное в ницшеанском понимании воли — ее жизнеутверждающий, творческий характер. В противоположность другому пониманию воли — как ущербной, «наказанной» существованием, в том смысле, что ее воление всегда реализуется в «существующем», которое она не в силах изменить, и поэтому вынуждена терзаться «деянием и виной», «пока наконец воля не избавится от себя самой и не станет отрицанием воли»: «Прочь вел я вас от этих басен, когда учил вас: «Воля есть созидательница»(1: 2, 102). Совершенно справедливо возникает вопрос о метафизичности понятия воли к власти, которое он часто отождествляет с волей к жизни. Жизнь понимается как непрерывный процесс соперничества множества воль, которые стремятся сделаться сильнее, постоянно увеличивая или теряя свою власть. Однако, согласно Ницше, это не означает, что воля доступна логике, разумному объяснению и познаваема в традиционном смысле слова. Принцип противоборства противостоящих воль не сводится к дарвиновской борьбе за выживание и самосохранение — «борьба идет за преобладание, за рост и расширение, за мощь воли к власти, которая и есть воля к жиз-ни»(1: 2, 8). Однако и рассуждения о принципе, и описание жизни как неупорядоченного потока становления Ницше принципиально не завершает систематическим изложением: он хотел дать «живую» философию, не выкраивая из нее нечто безжизненное, нечто деревянное, «четырехугольную глупость», «систему». В этом смысле воля к власти оказывается тем антиметафизическим центром философии, который заменяет все те упрощения и предрассудки, по мысли Ницше, которые были приняты в форме понятий каузальности, субстанции, субъекта, объекта и других в систематической философии. Такая картина мира определяет и специфическую гносеологическую позицию Ницше. Мы можем говорить только о том, что мы видим с нашей позиции, исходя из нашей точки зрения: «Мы не можем ничего сказать о вещи самой по себе, так как в этом случае мы лишаемся точки зрения познающего». Поэтому она получила название перспективизма: «есть только одно — перспективное «познание», и чем больше позволяем мы аффектам говорить о вещи, тем больше глаз, различных глаз имеем мы для созерцания вещи, тем полнее наше «понятие» о вещи, наша «объективность». Ключевым для ницшеанской воли к власти оказывается атрибут свободы: «Воля освобождает: таково истинное учение о воли и свободе — ему учит вас Заратустра» (1: 2, 61). Однако для Ницше эта свобода не предполагает рационально обоснованной цели и прогресса, более того, она снимает ограничения и дает развернуться самой жизни. Жизнь можно назвать «единственной целью моей воли». Учение о сверхчеловеке. Этим характеризуется сверхчеловек, Ubermensch, о котором пишет Ницше в первой части «Так говорил Заратустра». Сам Заратустра подчеркивает, что он учит о сверхчеловеке. Он — «наивысочайшее» самоосуществление воли. Три стадии превращения, которые мы упоминали, относятся к человеческому духу, который сам есть «нечто, что должно превзойти»: от реального несовершенного мира и навязанных извне представлений — к собственной пустыне и свободе «священного Нет» через битву с Драконом «Ты должен! » — к созданию новых ценностей. Высшие люди — предшественники сверхчеловека, они смело идут вперед, «дальше их самих», к «стране своих детей». К сожалению, Ницше даже в притчах не описывал этот творческий этап более подробно. Этим объясняется своеобразная оценка ценности человека, то есть современного человека, обремененного всем человеческим: «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью... В человеке важно то, что он мост,а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель» (1:2, 9). Свобода и презрение к самому себе — вот смысл характеристик сверхчеловека, утверждающего таким образом саму жизнь. Образ сверхчеловека противопоставляется образу «последнего человека»: «Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким» — он живет дольше всех, но это «самый презренный человек, который уже не может презирать самого себя» (1: 2, 11). Глупая толпа, слушавшая Заратустру, обрадовалась и была готова «дать сверхчеловека» взамен на то, чтобы стать последним человеком, не поняв сути противопоставления. Все это заставляет нас трактовать художественный образ сверхчеловека как идею высвобождения человеком жизни в самом себе — в противоположность той националистской интерпретации, которая была выведена из «Воли к власти» на основе упоминания «белокурой бестии». По Ницше, «никогда еще не было сверхчеловека» (1:2, 11) . Представления о сверхчеловеке существовали в истории культуры и философии как представления о героях и гениях (у софистов, скептиков, философов Возрождения, у просветителей, в движении «Бури и натиска», в немецком идеализме и т. д.). Однако Ницше вводит эту идею как развитие учения о созидательной воле или, что тоже верно, как основание говорить о созидающей воле и вечном возвращении в том его амбивалентном понимании, на которое мы еще укажем. В этом же ключе следует понимать и волю к истине, которая откроет другую важнейшую книгу этого периода «По ту сторону добра и зла». Речь идет об истине, отличной от традиционной рационалистической истины, о мышлении, отличном от традиционного рационалистического мышления: «Могли бы вы мыслить Бога? — Но пусть это означает для вас волю к истине, чтобы все превратилось в человечески мыслимое, человечески видимое, человечески чувствуемое! Ваши собственные чувства вы должны продумать до кон-ца!»(1:2, 60). Вечное возвращение. В поздних работах Ницше формулирует и еще одну идею, которую он считал главным своим открытием — «высшей формулой утверждения, которая вообще может быть достигнута» и даже специально уточнил в своем дневнике, а потом в «Ecce homo» время и обстоятельства открытия формулы: она «относится к августу 1881 года: она набросана на бумаге с надписью «6000 футов по ту сторону человека и времени». Я шел в этот день вдоль озера Сильваплана через леса...» (1: 2, 743). Это идея вечного возвращения. Учить вечному возвращению Заратустра начинает только после того, как наметил перспективу сверхчеловека как стремящегося к наивысшему проявлению воли к жизни. Сам Заратустра сначала пугается цикличности возвращения: « — Ах, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается!... А вечное возвращение даже самого маленького человека! — Это было неприязнью моей ко всякому существованию» (1: 2, 60). Но потом выздоравливающий Заратустра переосмысливает это открытие — оно оказывается связано с идеей сверхчеловека. Но это не план светлого будущего, а жесткий закон вечного возвращения жизни: «Жизнь есть без смысла, без цели, но возвращается неизбежно, без заключительного «ничто», «вечный возврат», — принять который может не каждый: слабый ищет в жизни смысла, цели, задачи, предустановленного порядка; сильному она должна служить материалом для творчества его. Таков сам Заратустра: «Я приемлю тебя, жизнь, какова бы ты ни была: данная мне в вечности, ты претворяешься в радость и желание непрестанного возвращения твоего; ибо я люблю тебя, вечность, и благословенно кольцо колец, кольцо возвращения, обручившее меня с тобою». Идея вечного возвращения формулировалась в античной философии (Пифагор, Гераклит, Эмпедокл, стоики, Лукреций и др.) как идея цикличного развития природы. Ницше приходит вместе с выздоравливающим Заратустрой к идее возвращения как освобождения и избрания, как обновления и усиления самой жизни. На этом основании можно сделать предположение, что возвращение не есть повторение того же самого, или во всяком случае у самого Ницше есть два подхода к возвращению. Тезис о смерти Бога, таким образом, дополняется идеей о смерти того человеческого, что сковывает волю: «Прочь от Бога и богов тянула меня эта воля; и что осталось бы созидать, если бы боги существовали!» (1: 2, 61). О смерти Бога в «Так говорил Заратустра» сообщается несколько раз: сначала как новость, которую знает Заратустра, но не знает святой, встретивший его, затем как персонаж, смерть которого вызывает реакцию толпы, повторяя отчасти сюжет из «Веселой науки», и только потом раскрывается истинный смысл тезиса — умирает то, что придавало смысл нашей повседневной жизни как обещание райского блаженства, умирает то, что уравнивает всех нас и в то же время приписывает значимость каждому ничтожеству, умирает все то, что мы считали ценностью, или, точнее, было внешним обоснованием ценностей. Смерть Бога предвещает приход сверхчеловека и только высшие люди могут осознать смерть Бога. Но это не означает, что сверхчеловек становится на место Бога или, тем более, что на место Бога становится человек. Это означает радикальную переоценку всех ценностей. В дальнейшем философы ХХ в., связав идею смерти Бога с идеей о сверхчеловеке, вывели тезис о смерти субъекта (Ж. Батай, М. Фуко, Э. Левинас и др.). Под этим понимается принципиальное изменение в философском определении человеческого — не на противопоставлении, а на обновлении того же самого. Например, в постструктурализме Ж. Делёза, П. Вирильо, М. Фуко и многих других, прежде всего политических философов это получило достаточно спорное определение трансгрессии — перехода границ того же самого. > Принципиально важной в этом отношении является реакция человека« Показательна притча «Праздник осла», из-за которой сестра Ницше не хотела включать четвертую часть в новое издание «Так говорил Заратустра», — она возвращает нас к дионисийскому началу, о котором шла речь в «Рождении трагедии из духа музыки», к веселью, которое свойственно высшим людям, — изобретение праздника оказывается добрым знамением, по словам Заратустры, грядущих изменений. Переоценка ценностей. Какой должна быть философия, чем и как она предполагает заниматься, от каких ценностей следует отрешиться, какая мораль губит волю к жизни — эти проблемы затрагиваются в последних работах Ницше. И прежде всего в работе «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего». Последовавшая за ней «К генеалогии морали» должна была стать приложением к тексту «По ту сторону добра и зла». Эти две работы выявили внутренние причины упадка человеческого духа и предложили новый метод анализа этих явлений. Предшествующая «философия догматиков», назойливо стремившаяся к истине, бессмысленно тратила усилия — «и быть может, недалеко то время, когда снова поймут, чего, собственно, было уже достаточно длятого, чтобы служить краеугольным камнем таких величественных и безусловных философских построек, какие возводились до сих пор догматиками, — какое-нибудь суеверие из незапамятных времен (как, например, суеверие души, еще доныне не переставшее бесчинствовать под видом суеверных понятий «субъект» и Я), быть может, какая-нибудь игра слов, какой-нибудь грамматический соблазн или смелое обобщение очень узких, очень личных, человеческих, слишком человеческих фактов» (1:2, 239). Воля к истине должна рассматриваться теперь не с точки зрения противопоставления истины и лжи, правды и заблуждения. Противопоставление и апелляция к чистому духу и добру самому по себе являются «самым худшим, самым томительным и самым опасным из всех заблуждений». К философским проблемам следует подходить с позиции «перспективности, то есть условия всяческой жизни». Такова будет новая философия, нарождающийся «новый род философов», искусителей не будет догматическим в том смысле, что новые философы не будут претендовать на то, чтобы их личная истина становилась всеобщей истиной, они будут свободными. Так же нелепо обвинение новой философии в мстительности и злобе — рассуждения Ницше представляют образ любви, которая бы утверждала волю и разрушала бы то, что ей противно: «где нельзя уже любить, там нужно — пройти мимо! — Так говорил Заратустра и прошел мимо шута и большого города» (1:2, 128). Так же следует понимать и афоризм о философствовании молотом: «Но всегда к человеку влечет меня сызнова пламенная воля моя к созиданию; так устремляется молот на камень» (1:2, 62). А главное — они будут совершенно другими, они не будут защищать существующие ценности и быть современными в том, чтобы поддерживать все нововведения в области идей. Ницше имел в виду прежде всего такие новые ценности, как демократия, социализм, феминизм — все это, по мысли Ницше, является препятствием для свободного проявления жизни, поскольку позволяет толпе, массе, слабому, женщине властвовать наравне с тем, кто несет в себе воплощенный жизненный закон. Негативизм Ницше, к которому часто несправедливо сводится его философия, предполагает оптимизм и жизнеутверждающее созидание: «Созидать — это великое избавление от страдания и облегчение жизни. Но чтобы быть созидающим, надо подвергнуться страданиям и многим превращениям» (1: 2, 61). Отказ от существующих и функционирующих ценностей обосновывается именем высшего закона, стоящего «по ту сторону добра и зла». На первый план в критической части ницшеанской философии выходит, таким образом, мораль и религия, прежде всего христианство. Этому посвящены названные работы и произведение «Антихрист», которое должно было стать первой частью «Переоценки всех ценностей». Моральные и религиозные ценности исторически и социально относительны, на практике они порождают противоречия, они исторически изменчивы. Их появление нельзя объяснить целесообразностью или неким единым основанием. Показать конвенциональность действующих моральных добродетелей, их конструктивистский, а не сущностный характер призвана генеалогия морали. Это принципиально новая дисциплина, задачей которой должно стать историческое исследование происхождения предрассудков. Это разоблачение искусственной и противоестественной конструкции того, что считается объективно данным, истинным, исходным — моральных ценностей. Главным критерием должна стать самоочевидность, которая не предполагает априорности, логичности, гипотетичности как обосновывающих право моральных ценностей на существование.Три проблемы кажутся Ницше наиболее показательными — рессентимент (ressentiment), вина и нечистая совесть, а также аскетизм. Наиболее яркой видится идея рессентимента, объясняющая происхождение многих моральных переживаний: это своеобразное, чуть ли не рефлекторное, воспроизведение негативной эмоции, которая появляется из-за бессилия. По мысли Ницше, слабый человек из-за отсутствия внутренней жизненной силы чувствует зависть, ревность, ненависть, желание отомстить. Однако эти чувства опять-таки из-за слабости не находят своей реализации, что усиливает эффект рессентимента — т. е. воспроизведение состояния бессилия по отношению к объекту и в результате самобичевание, или самоотравление сконструированными искусственными запретами и нормами, что придает исходному злобному чувству маску благочестия и моральности. Рессентимент может быть направлен вовне — это «восстание рабов в морали», или обращен на самого себя — это аскетизм. И то и другое оказываются идеалами, проповедуемыми христианством и социализмом. Христианство, имеющее долгую и разрушительную, по мнению Ницше, историю, является главным виновником такого разложения духа, которое мы наблюдаем сегодня. В истории современной мысли философия Фридриха Ницше занимает особое место. Независимо от ее содержательной оценки она, несомненно, оказалась одной из самых влиятельных в ХХ в., выходящей за рамки немецкой философии. Философия Ницше оказалась в эпицентре политической истории, стала предметом вольной интерпретации, и в этом препарированном виде — формирующим фактором манипуляции массовым сознанием. Это вызывает дополнительный интерес и требует еще более бережного отношения к исходным идеям. Ницше по праву считается основоположником философии жизни, в рамках которой возникают ее «академическая» версия В. Дильтея (1833— 1911), интуитивизм А.Бергсона (1859—1941), философия культуры О. Шпенглера (1880— 1936), социология культуры Г. Зиммеля (1858 — 1918), мифология культуры Л. Клагеса (1872 - 1956) и др. Идеи Ницше оказали непосредственное влияние на теорию архетипов К. Юнга, экзистенциальную феноменологию М. Хайдеггера, М. Шелера, герменевтику П. Рикёра и Г. Гадамера, на экзистенциалистские учения К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю. Следует выделить влияние философии Ницше на постструктурализм, который часто определяют как неоницшеанство, в рамках которого на основе идеи воли к власти Ницше возникает концепция микрофизики власти М. Фуко, удовольствия от текста Р. Барта, образ множественной поверхности Ж. Делёза, соблазна Ж. Бодрийара; на основе идеи вечного возвращения — идея повторения и различия Ж. Делёза; на основе идеи сверхчеловека — идея сверх-складки Делёза и многие другие. Но даже не принимая идеи Ницше непосредственно, не ссылаясь на них, философы ХХ века вобрали в себя бесценный опыт его философствования. Литература1.Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990 . 2.Ницше Ф. Избранные произведения: В 3 т. М., 1994. 3.Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.Белый А. Кризис культуры // На перевале. Берлин, 1923. 4.Данто А. Ницше как философ. М., 2000. 5.Делёз Ж. Ницше. М., 1999. 6.Деррида Ж. Шпоры: Стили Ницше // Вопросы философии. 1988. № 2. 7.Ницше: pro et contra. Антология. СПб., 2001. 8.Риль А. Фридрих Ницше как художник и мыслитель. СПб., 1901. 9.Слотердайк П. Мыслитель на сцене. Материализм Ницше // Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001. 10.Фридрих Ницше и философия в России // Сборник статей. СПб., 1999. 11.Юнгер Ф. Ницше. М., 2001. 12.Deleuze G. Nietzche et la philosophie. Paris, 1962. 13.Heidegger M. Nietzsches Wort Gott ist tot // M. Heidegger Holzwege. Fr. aM., 1950. 14.Heidegger M. Nietzsche. 2 Bd. Pfullingen, 1976. 15.Jaspers K. Nietzsche. Einfuhrung in das Verstandnis seines Philosophierens. В., 1947. 16.Kofman S. Nietzsche and Metaphor. Stanford, CA, 1993. 17.Pannwitz R. Einfuhrung in Nietzshe. Munchen, 1920. 18.Podach E. F. Nietzches Zusammenbruch. Heidelberg, 1930. 19.Scott Ch. E. The Question of Ethics, Nietzsche, Foucault, Heidegger. Bloomington, IN, 1990. Глава 10. БЕРГСОН Анри Бергсон родился в 1859 г. в Париже. До 19 лет он остается гражданином Великобритании, так как его мать Катрин, увлеченная искусством и привившая сыну любовь к английскому языку, литературе и поэзии, была англичанкой. Анри, воспитывавшийся в пансионах с 9 лет, окончательно решает остаться во Франции и продолжить образование в лицее Кондорсе. Бергсон серьезно и успешно занимался математикой: преподававший ему известный математик Дебов поместил студенческую статью Бергсона в свою книгу о Блезе Паскале и современной геометрии, и за нее Бергсон получил свою первую премию — «Анналов математики». Переход Бергсона в 1881 г. в Эколь Нормаль, где он учился потом философии вместе с Дюркгеймом, стало большим разочарованием для его профессоров: «Вы могли бы стать математиком, а пожелали всего лишь быть философом». Проблематика, интересующая Бергсона, — это прежде всего проблематика научного знания. Он находится под впечатлением англосаксонской философии второй половины XIX в., прежде всего Г. Спенсера, а также целой плеяды французских авторов: Равессона, своеобразно толковавшего идеи де Бирана о соотношении фактов и внутренней жизни, Лашелье, предложившего свою интерпретацию индукции, и преподававшего в то время в Эколь Нормаль, Э. Бутру, развивавшего кантовские идеи применительно к современным законам естественных наук. Бергсон занимается переводом Лукреция и готовит, как это было принято, две выпускные диссертации: «Чувственное познание по Аристотелю» и «Непосредственные данные сознания». Над последней он работал в течение двух лет, уже занимая преподавательскую должность в Клермон-Ферране, но именно в этой работе, вышедшей в 1889 г. под названием «Очерк о непосредственных данных сознания», содержится поворотное, по мнению самого Бергсона, открытие — длительность (la duree): «До того момента, как я осознал длительность, я могу сказать, что я жил снаружи по отношению к самому себе». Развивая идеи двойственной природы нашего познания, Бергсон, занимая с 1890 г. должность профессора Коллеж де Франс, углубляется в проблемы психологии — этому посвящена «Материя и память» (1896). Более специальная работа — «Смех. Очерки о значении комического» (1900) — не менее детально описывает психологический феномен смеха и те ошибочные интерпретации, которые существовали в истории философии. Своеобразной реконструкцией метафизики — революционным интуитивизмом — становится «Творческая эволюция» (1907) и предваряющее ее «Введение в метафизику» (1903). Именно «Творческая эволюция», где вводится понятие творческого порыва (elan vital), сделала Бергсона для многих — например, Джеймса, Маритэна — культовой фигурой. Его лекции чрезвычайно популярны в Англии, США, Испании — в 1919 г. выходит первый сборник его выступлений «Духовная энергия», второй сборник — «Мысль и движущееся» ( 1934) станет последней прижизненной публикацией Бергсона. Он становится академиком (1920), в 1917 г. его направляют с особой миссией в США, затем он работает в Лиге Наций в «Комиссии по интеллектуальному сотрудничеству» до тех пор, пока артрит не вынуждает его оставить пост ее президента. В 1928 г. он получает Нобелевскую премию по литературе, после этого он наконец заканчивает еще один труд, столь же фундаментальный, детально проработанный, как и все немногие работы Бергсона, — на этот раз посвященный человеческому обществу «Два источника морали и религии» (1932). В эти годы на Бергсона сильное влияние оказывает католицизм, и он, согласно многим свидетельствам, собирается перейти из иудаизма — религии его родителей — в католичество, но волна антисемитизма заставляет его отложить эти планы: «Я предпочту остаться среди тех, кто завтра будет изгоем». После оккупации Франции фашистами он отказывается от предложенного ему звания «Почетный ариец» и идет в бесконечную очередь регистрации евреев, простужается и через два дня — 7 января 1941 г. — умирает от воспаления легких. Бергсон является родоначальником интуитивизма, поскольку он противопоставил рациональным познавательным способностям способности интуиции. Только интуиция способна схватить истину — истину целостной и изменчивой жизни. На этом основании Бергсона считают представителем так называемой академической философии жизни, которая старается решить традиционные проблемы философии, исходя из того, что основным специфическим предметом ее внимания должна быть жизнь. Учение о длительности. В «Очерке о непосредственных данных сознания» Бергсон, во многом под влиянием идей эволюционизма Г. Спенсера и, в частности, его разработки проблемы времени в «Основных началах», вводит свое знаменитое понятие длительности (la duree), которое оказывается определением сознания: «Чистая длительность есть форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше Я просто живет, когда оно не устанавливает различия между наличными состояниями и теми, что им предшествовали» (1: 93). Бергсон ставит своей задачей определить сознание так, чтобы возникла предельно широкая картина индивидуальной духовной жизни, включающей мысли, образы, эмоции, в противовес популярному тогда количественному подходу в психологии. Ему важно разобраться с тем, как работают понятия в современной науке, прежде всего механике и математике. Но при этом он вышел на самые острые в то время дискуссии в области психологии. Например, «Элементы психофизики» (1860) Г. Т. Фехнера предлагали точную формулу соотношения психического (чувства-восприятия) и физического (стимул) сознания. Бергсон считает, что то, что мы воспринимаем за шкалу — лишь качественная трансформация данных, и следует исходить из чистого качества по отношению к сознанию. Духовная жизнь не подчиняется детерминистским законам науки. Длительность отлична от детерминистского понимания пространства и времени. Казалось бы, эта идея присуща самым разным наукам, в том числе и психологии, но, по мнению Бергсона, ни в одной науке нет концепции, в которой время было представлено так, как мы его переживаем. Идея Бергсона состоит в том, что переживание времени совпадает с последовательностью состояний нашего сознания, которая не сводится к фиксации отдельных единообразных моментов — универсальных дискретных единиц. Бергсон дает в качестве примера сюжет с часами: когда я слежу глазами за стрелками часов, то я считаю одновременности, а не измеряю длительность, — вне меня, в пространстве, есть только одно-единственное положение стрелок, от прошлого ничего не осталось, но «внутри же меня продолжается процесс организации или взаимопроникновения фактов сознания, составляющих истинную длительность» (1: 96). Только благодаря этой длительности я представляю себе прошлые положения в тот самый момент, когда я воспринимаю данное положение. Сознание в широком его понимании, или истинное, основное Я со всем единством многообразия, состоит в чистом переживании длительности — в чистом протяжении времени. Во многом Бергсон опирается на априоризм И. Канта, согласно которому пространство и время суть априорные формы чувственности. Время — особая форма чувственности, поскольку является «внутренней», структурирует Я и, как отмечается у И. Канта, оказывается основой опыта, конституирующего чувственный материал на основе чистых понятий рассудка по принципу так называемого схематизма времени. Но Кант, с точки зрения Бергсона, путает пространство и время, считая время столь же схематичным, дискретным, как и пространство. Следует противопоставить длительность и пространство. Тем более что всегда существует опасность бессознательно заменить ее пространством, когда мы хотим ее измерить. Однако интуитивистское разрешение противопоставления пространства и времени — Как результата непосредственного схватывания — сопровождается у Бергсона так называемым атомистским аргументом: непрерывность истинного понимания времени противопоставляется дискретности рационального понятия пространства. Именно поэтому аргументация Бергсона не подошла современным философам, выстраивающим концепцию непрерывного изменчивого пространства и апеллирующим к геометрии положения — топологии — в противовес дискретной Евклидовой геометрии. Я, понятое как длительность, будет показано как проявление «неудержимой свободы». Для Бергсона это принципиально важно, это конечная цель исследования: «надо переместиться в чистую длительность, чтобы вновь обрести себя, действовать свободно». Психология. Двойственная теория познания, представленная в первой работе Бергсона, должна быть дополнена психологией, которая объяснила бы механизм такого познания. Этому посвящена работа «Материя и память». Основные срезы сознания — восприятия и воспоминания — в современной Бергсону психологии рассматривались как различные по степени интенсивности явления одной природы. В этом была особенность и английской философии Нового времени, повлиявшей на всю островную философию ХХ в.: реальность воспринятого объекта и идеальность представленного — суть одно и то же. Как отмечает сам Бергсон, психологическая проблема превращается таким образом в проблему метафизическую, которая требует принципиально нового решения: проблема определения памяти, не сводящего память к функционированию материи — мозга. Поэтому Бергсон начинает с условного «чистого восприятия», то есть тело рассматривается как математическая точка в пространстве, а само восприятие как математический момент во времени, и обнаруживается, что восприятие — это «виртуальное действие вещей на наше тело и нашего тела на вещи» (1: 306), состояние мозга является продолжением восприятия, начавшимся действием. Мозг регистрирует то, что полезно для действия. В этом смысле, по мнению Бергсона, следует понимать интеллектуальные иллюзии, которые сводят всю духовную деятельность исключительно к мозговой. У Бергсона есть замечательное образное определение характера мозговой деятельности: мозг работает как орган пантомимы, он оживляет мысль, переводит ее в движение и мимику. Поэтому психологический анализ должен, во-первых, вернуться к проблеме объяснения происхождения умственных функций, а во-вторых, специальное внимание обратить на метафизическое объяснение механической привычки действовать. Когда мы добавляем субъективные моменты — придаем телу его протяженность, а восприятию — его длительность, или, соответственно, аффективность и память, то окажется, что чистое восприятие не является чистым созерцанием или возвращением к воспоминанию, которое считалось ослабленным восприятием. Бергсон критикует теорию ассоциаций прежде всего за то, что все воспоминания и наша работа с ними рассматриваются как звенья восприятия по принципу сходства или смежности. Даже критики ассоцианизма не видят истинной природы ассоциаций. Согласно Бергсону, есть срез действия, где телесно закреплены некие двигательные привычки — ассоциации разыгрываемые — автоматическая двигательная реакция на сходную внешнюю ситуацию, а есть срез грезы, где никакое действие не примешивается к образу, это сфера чистой памяти, сфера духа. Чистое воспоминание соприкасается с чистым восприятием, отчасти связанным с телесным, в точке реального восприятия, где все оказывается связано с длительностью и памятью. Точка пересечения спонтанного разума с телесным дает нам феномен ассоциаций, появления наиболее простых общих идей. Разум, чтобы дополнить свои воспоминания или локализовать их, должен перейти от бедных воспоминаний, предназначенных для непосредственного телесного действия, к более широкому кругу сознания, удалиться от действия. Здесь нет механических операций разума, это переход на уровень, несводимый к телесному, действующему, материальному, — переход на уровень духа. Воспоминание не может быть поэтому результатом церебрального состояния. Это сфера духа. Память отделима от мозговой деятельности и именно благодаря памяти мы обретаем чувство собственного Я — все богатство нашего внутреннего духовного мира, не связанного с внешними действиями. Главный вывод рассуждений о материи и духе, с точки зрения самого Бергсона, состоит не в подтверждении дуализма, а в устранении или смягчении проблемы «тройной противоположности непротяженного и протяженного, качества и количества, свободы и необходимости» (1: 313), связанной с дуализмом. Получается, что «непосредственная данность, реальность представляет собой нечто промежуточное между разделенной на части протяженностью и чистой непротяженностью: это то, что мы назвали экстенсивным» (1: 313 — 314). Это свойство восприятия, которое активно используется рассудком в интересах действия: абстрактное пространство, например, позволяет нам манипулировать множественной и бесконечно делимой протяженностью, мы можем уменьшать плотность восприятия, растворяя его в аффектах, или, наоборот, превращать его в чистые идеи. Эта двойная работа в противоположных направлениях и излишнее доверие рассудку приводят к тому, что исходная интуиция восприятия как экстенсивного утрачивается и ее сменяет жесткая антиномия бесконечно делимой протяженности и абсолютно непротяженных ощущений. Если мы принимаем первую противоположность, то, как следствие, принимаем и вторую: качества и количества, то есть, по Бергсону, сознания и движения. Но ее можно снять, по мнению Бергсона, при помощи другой идеи, аналогичной идее экстенсивности, — идеи внутреннегонапряжения, или ритма длительности, которое различает чувственные качества в том виде, как они даны нам в представлении, и теми же качествами, которые трактуются как исчислимые изменения. Свобода оказывается связана с необходимостью следующим образом: «дух заимствует у материи восприятия, которые его питают, и возвращает их ей, придав форму движения, — форму, в которой воплощена его свобода» (1:316). Говоря об эволюции живого и появлении сознания, Бергсон отмечает, что сознание благодаря памяти о непосредственном опыте прошлого, которая помогает организовать это прошлое в одно целое с настоящим, становится способным легко согласовываться с необходимостью. Критики и последователи Бергсона столкнулись с трудностями понимания своеобразной терминологии, которая используется в этой работе и отличается от общепринятой (например, образы понимаются как репрезентативные ощущения и т. п.). Многие сделали акцент на проблеме свободы, как центральной для вопроса о соотнесении тела с духом, однако интерпретации часто противоречат друг другу — Бергсона обвиняют в сенсуализации свободы, в ее регрессивном понимании, в ее понимании как необходимости и т. д. Творческая эволюция. Однако именно эти идеи о соотношении свободы и необходимости реально представляющие взаимопроникновения духа и материи подготавливают выход основного метафизического труда Бергсона «Творческая эволюция», в которой главным предметом исследования станет единство жизни. Бергсон в этот период уже критически расценивает все существующие эволюционистские концепции, прежде всего дарвинизм, также и эволюционизм Г. Спенсера, под влиянием которого он находился в начале своей философской эволюции. Процесс развития, с точки зрения этих концепций, телеологичен, и даже у Спенсера эволюция прослеживается по отдельным изменениям, которые фиксируются рациональным анализом как изменения форм, — это так называемый дизморфизм. При этом единство жизни понимается не как абстрактное единство, схватываемое интеллектом. Бергсон подвергает критике основы гегельянства и считает, что теория жизни должна получить свою антиинтеллектуалистскую теорию познания, основанную на том, что составляет саму жизнь. Надо переживать жизнь, или, как выражается Бергсон, попытаться зачерпнуть воду решетом. Это возможно только с помощью интуиции. Только в интуиции дано созерцание движения в той же непрерывности, что и изменчивости сознания. Именно поэтому Бергсон начинает с проблемы психофизического параллелизма, апеллируя к Декарту и формулируя свое положение о соотношении мозга и ума: мозг и ум солидарны, но не тождественны. То, что в душе, не ум — инстинкт: «сила, действующая на материю и организующая ее сообразно цели, требуемой жизнью». Это отличает инстинкт от автоматического поведения, примеров которого Бергсон приводит множество. Это прежде всего мир насекомых, где оса «знает», как парализовать жертву. В отличие от автоматизма инстинкт предполагает некоторую симпатию, душевную открытость миру, знание единства жизни, не продуманное заранее, не усвоенное специально, а обнаруженное действиями, пережитое и выраженное. Если ум направлен на множество объектов и выявляет их сходство и различие, сравнивая каждый элемент множества с каждым другим, то инстинкт схватывает один объект или его часть, но схватывает по особенному — в его изменчивости. Ум устанавливает отношения между вещами, выделяет свойства и на основании этого способен выделывать искусственные орудия труда. Ум выделяет требуемую функцию и увязывает ее с тем или иным свойством, которое характерно для целого ряда предметов. Инстинкт не высчитывает и не анализирует, но именно благодаря ему хищник догоняет свою жертву, схватывая ее в движении, а не вычерчивая и не просчитывая траекторию ее пути. Благодаря инстинкту появляются естественные орудия труда, использующие объект в целом или его часть. Это частичное познание, но поскольку в этой части оно целостно, только инстинкт способен познать движение и жизнь. Но самое главное, инстинкт способен осознать самое себя. На этом строится, например, эстетическое восприятие, которое ближе всего к философии жизни. Философия должна перестать быть наукой, чтобы знать не относительно, а абсолютно — так звучит один из афоризмов Бергсона. Традиционная наука опирается на сравнение и символическое обозначение предмета и дает знание не тождественное предмету. Главным методом должна стать интуиция, непосредственное знание. Это двойное движение напряжения и ослабления, которое сначала направлено на само Я. Это необходимый толчок для получения правильного направления познавательного поиска. Так, первой в картине мира становится психологическая интроспекция, на основе которой по аналогии выстраивается картина Вселенной. Здесь, на этапе метафизики подключается разум. Философия интуиции, таким образом, сможет выстроить метафизику абсолютного, схватить качество жизни, то есть жизнь в становлении и движении, сможет понять настоящее, а не только прошлое, как эволюцию. Основные определения жизни у Бергсона оказываются метафоричными. Наиболее устойчивым является образ непрерывного творческого порыва (elan vital), который описывается как «ракета, потухшие остатки которой падают в виде материи... также то, что сохраняется от самой ракеты и, прорезая эти остатки, зажигает их в организмы» (2: 233). В другом определении подчеркивается роль сознания, которое является двигательным принципом эволюции. Однако в литературе нет однозначного мнения можно ли на этом основании считать концепцию Бергсона идеалистической, можно ли трактовать основу жизни как сверх-сознание. Ведь, согласно Бергсону, спонтанный жизненный порыв лежит в основании тех проявлений и творческого поиска в материи, которые откликаются раздражимостью (у растений), инстинктом (у животных), интеллектом и интуицией-инстинктом — Бергсон использует оба термина — (у человека). Общество. Соответствовать этому жизненному отклику должно и общество, которое Бергсон называет открытым и отличает от закрытого, и его духовное основание — динамические, в отличие от статических, мораль и религия. Социальная концепция завершает философию духовной жизни и творческого порыва: в качестве организующего принципа должна утвердиться любовь к человечеству на основе новой метафизики интуитивистской философии жизни. В закрытых обществах, которые существуют ради самосохранения и защищают интересы небольшой группы людей, главным моральным принципом является моральный долг — основа воли как общая привычка. Это надындивидуальное социальное требование замкнутого общества, требующего дисциплины и иерархического подчинения. Статическая религия, обслуживающая замкнутое общество, создает мифы, которые успокаивают и защищают от страха перед смертью и всевластием интеллекта. Но даже в замкнутом обществе появляются герои, несущие с собой творческое началои открытость. В статической религии могут появиться тексты, проповедующие братскую любовь как, например, в евангельской Нагорной проповеди. Истинная религия строится сама на творческом порыве и любви, она мистична, поскольку мистика соответствует изменчивости жизни. Динамическая мораль призвана развивать любовь к человечеству и Богу — каждый отдельный человек эмоционально отзывается на призывы моральных героев. Только в открытом обществе каждый отдельный человек — личность, благодаря этому общество постоянно развивается. За такими обществами — будущее. На основе этих идей Бергсона появляется концепция «открытого общества» К. Поппера. В социальной утопии наиболее ярко проявились те качества Бергсона, которые назвал П. Валери на специальном заседании Академии, посвященном памяти Бергсона в 1941 году: «Возвышенный, чистый, превосходный образ мыслящего человека, может быть одного из последних людей, необыкновенно, глубоко, величественно мыслящих во времена, когда мир все меньше думает и размышляет, когда цивилизация, кажется, со дня на день превратится в руины и воспоминание...» (1: 49). Литература1.Бергсон А. Собрание сочинений: В 4 т. Том 1. М., 1992. 2.Бергсон А. Творческая эволюция М., 1998. 3.Bergson H. Oeuvres. Ed. de centenaire. Textes annot. par A. Robinet. Introd. par H. Gouhier. P., 1959. 4.Блауберг И. Анри Бергсон. M., 2003. 5.Antliff M. Inventing Bergson, 1993. 6.Kolakowski L. Bergson, 1985. 7.Soulez F. Henry Bergson, 1986. Глава 11. ПРАГМАТИЗМ Прагматизм — важнейшее направление американской философии. Его главными представителями на раннем этапе были Ч. С. Пирс, У. Джеймс и Дж. Дьюи. Чарльз Сандерс Пирс по праву считается одним из самых оригинальных и многогранных философов, которых когда-либо производила на свет Америка. Будучи интеллектуалом-новатором, он предвосхитил пути развития самых разных научных дисциплин. Его исследования оставили заметный след как в точных и естественных, так и в гуманитарных науках. Он был математиком, астрономом, химиком, геодезистом, картографом и инженером, но также психологом, филологом и историком науки. Он был одним из первых в США, кто стал заниматься экспериментальной психологией и первым, кто применил в качестве меры измерения длину световой волны. Его посмертную славу составили работы в области логики и семиотики, но он также являлся автором оригинальной метафизической системы. В историю философии Ч. С. Пирс вошел как основатель философии прагматизма, еще одного направления его интеллектуального творчества. Пирс родился в 1839 г. в Кембридже, штат Массачусетс. Гарвардский университет Пирс закончил в 1859 г., а в 1863 г. получил степень бакалавра по химии. С 1859 г. вплоть до конца 1891 г. он работает — сначала лаборантом и техником, а затем ассистентом — в Береговой и геодезической службе США, занимаясь главным образом геодезическими исследованиями. В течение шести лет с 1869 по 1875 г. Пирс занимает должность ассистента в Гарвардской обсерватории. С 1879 по 1884 г. Пирс совмещает работу в Управлении с преподаванием логики в качестве «приглашенного лектора» на кафедре математики в Университете Джона Хопкинса. Несмотря на неудачные попытки сделать академическую карьеру, Ч. С. Пирс добивается признания научного сообщества: его избирают в члены Американской академии искусств и наук (1867), Национальной академии наук (1877), Лондонского математического общества (1880) и ряда других престижных научных организаций. При жизни были оценены главным образом его астрономические и геодезические исследования, поэтому завоеванное признание не было ни всеобщим, ни однозначным — издательства продолжали отклонять его статьи, а университеты отказывались принимать его на постоянную работу. Последние 26 лет своей жизни Пирс проводит в затворничестве со своей второй женой в небольшом имении близ г. Милфорд на северо-западе штата Пенсильвания. Скончался Ч. С. Пирс от рака в 1914 г. Многочисленные трудности, включая материальную необеспеченность, не могли помешать Пирсу отдавать все свое время интенсивным научным исследованиям. После себя он оставил большое количество опубликованных статей (около 80 тыс. страниц печатного текста), а также огромное рукописное наследие, насчитывающее около 100 тыс. страниц. Известность к Пирсу приходит только в 30-е гг., когда в свет выходят первые тома Собрания сочинений. Произведения Пирса, которого иногда называют «американским Аристотелем», оказали громадное влияние на философию и науку современности. Произошло это, к сожалению, уже после смерти их автора. Идеи Пирса были непосредственно восприняты У. Джеймсом и Дж. Дьюи, которые уже по-своему интерпретировали суть и метод прагматизма. Философия Пирса вдохновляла К. Поппера, У. В. О. Куайна, X. Патнема и К.-О. Апеля. Что касается семиотиков, то его последователем можно считать У. Эко. Когнитивная наука и теории искусственного интеллекта также многим обязаны Чарльзу Пирсу, который соединял в себе гениальную интуицию ученого со страстью к тщательному и непредвзятому анализу. Прагматизм Пирса: основные принципы, понятия и установки. Несмотря на разносторонность своих дарований, Ч. Пирс известен прежде всего как основоположник прагматизма. Он и сформулировал программу этого течения, и придумал термин для его обозначения. В статье «Что такое прагматизм?» (1905) Пирс писал, что «самой, пожалуй, поразительной чертой новой теории было признание наличия неразрывной связи между рациональным познанием и рациональной целью» (1: 158). Основы концепции прагматизма были заложены Пирсом в печатных трудах и выступлениях, относящихся к периоду 1865— 1878 гг. Решающими для последующего развития прагматизма как философского течения стали две статьи Пирса — «Закрепление верования» и «Как сделать наши идеи ясными», впервые опубликованные в Popular Science Monthly за ноябрь 1877 и январь 1878 гг. соответственно. «Закрепление верования». В этой статье Пирс вводит два важных понятия — понятие «сомнения» (doubt) и понятие «верования» (belief). Belief — многозначное английское слово, которое можно перевести и как убеждение, мнение, полагание. У Пирса, конечно, речь идет не о религиозном смысле, а о психологических состояниях веры и сомнения, которые испытывает каждый. И сомнение и вера оказывают позитивное воздействие, поэтому каждое по-своему необходимо. Вера не заставляет действовать сразу, но при определенных обстоятельствах она принуждает нас поступать определенным образом, т. е. выступает в качестве предрасположенности к действию. Сомнение сразу же стимулирует нас к действию до тех пор, пока мы его не преодолеем. Таким образом, вся человеческая деятельность имеет структуру перехода от сомнения к вере. Сам переход от сомнения к вере, — любой, а не только имеющий отношение к научной деятельности, — Пирс называет «исследованием». Сомнение при этом должно быть «живым», жизненным сомнением, т. е. должно быть привязано к конкретной ситуации. Это не универсальное сомнение Декарта, к которому философ прибегает произвольно, как к инструменту нахождения истины. Сомнение у Пирса возникает естественным образом и связано прежде всего с появлением обстоятельств, которые не укладываются в привычную картину мира. Позднее Джон Дьюи ввел понятие «проблематической ситуации» и сформулировал основные признаки такой ситуации, однако первоначальная идея принадлежала, как мы видим, Пирсу.Верование трактуется прагматизмом как установление привычки, «привычки ума», которая определяет наши будущие действия. Что же необходимо, чтобы закрепить верование? Пирс перечисляет четыре способа или метода, подробно останавливаясь на их преимуществах и недостатках. Метод упорства — это метод психологический, берущий начало в инстинктивной психологии человека, когда преодолеть сомнение человек пытается тем, что до последнего отстаивает свои привычные убеждения. Метод авторитета имеет социально-психологическую природу, является «естественным продуктом общественного сознания». Исторически его непосредственными проводниками оказывались государственная машина или духовенство, а объектом — подданные или масса верующих, чье сознание подвергалось воздействию путем пропаганды, проповеди, а также более жестких мер. По сравнению с методом упорства метод авторитета, согласно Пирсу, обладает несомненным моральным и даже интеллектуальным превосходством, однако при переходе от жизни одиночки к общественной жизни человек сталкивается с новой опасностью — стать «духовным рабом». Априорный метод — это метод установления мнений, который используют «личности, возвышающиеся над раз и навсегда установленным положением вещей». Исторически наиболее удачным примером априорного метода Пирс считает учения метафизиков, к примеру Декарта или Гегеля. Недостатки данного метода, с другой стороны, очевидны. Создатели той или иной теории как совокупности верований с самого начала исходят из своих «естественных предпочтений», не утруждая себя проверкой при помощи фактов. С этим связан вывод Пирса о том, что такой метод «делает из исследования нечто напоминающее совершенствование вкуса». Научный метод, согласно Пирсу, отличает то, что основанные на нем убеждения «определяются не чисто человеческими обстоятельствами, но некоторым внешним сознанию постоянством, на которое наше мышление не имеет никакого влияния» (1: 117). Обратимся теперь к преимуществам научного метода. Первым и основным преимуществом является то, что научный метод является единственным из четырех методов, который дает ясный критерий различения между верным и неверным путями исследования». Речь идет о том, что все остальные методы содержат критерий правильности в самих себе, — т. е. правильным является то, что произвольно принимается за таковое, — что фактически означает отсутствие критерия. Еще одним важным и также уникальным преимуществом научного метода является соответствие фактам. Ни метод упорства, ни метод авторитета, ни, наконец, априорный метод не опираются на факты или опираются на них в незначительной степени так, что удостоверение со стороны чувственного опыта всегда носит лишь непринципиальный, второстепенный характер. «Как сделать наши идеи ясными». В предыдущей статье речь шла о сомнении и веровании. Теперь, на фоне тех же понятий, Пирс выстраивает свое учение о мышлении, поскольку определение процесса мышления является предварительным и необходимым условием для ответа на вопрос «Как сделать наши идеи ясными? ». Пирс — эмпирист. В основе мышления лежат ощущения. Мысли — последовательности ощущений в сознании. «Мысль, — как ее метафорически определяет Пирс, — представляет собой нить мелодии, пронизывающую собой всю последовательность наших ощущений» (1: 133). Мысль — одна из систем отношений между ощущениями. Несмотря на то, что суть мысли состоит в движении, основной целью любой мыслительнойдеятельности является достижение покоя, т. е. достижение верования. Одно не противоречит другому, поскольку, «являясь местом остановки мысли, убеждение также представляет собой область, втягивающую мысль в новое движение» (1: 134). С другой стороны, само верование характеризуется Пирсом через три функциональных свойства: (1) осознанность; (2) устранение раздражения, вызываемого сомнением; (3) установление привычки. За нашими мыслями, даже самими абстрактными, лежит система ощущений. Прагматистская максима, которая получила известность как «принцип Пирса», звучит следующим образом: «...рассмотрите, какого рода следствия, могущие иметь практическое значение, имеет, как мы считаем, объект нашего понятия. Тогда наше понятие об этих следствиях и есть полное понятие об объекте» (3: 278). Методология, основанная на этом принципе, и только она, способна привести к ясным идеям. Не только наши понятия о реальных вещах как таковых (вино, цветок и т. п.), но и абстрактные понятия (а также их системы — теории и законы) следует рассматривать через призму этого принципа. Раскрывая любое содержание мысли через перечисление всех возможных ее практических следствий, мы одновременно устраняем причины, которые ведут к возникновению большей части научных и философских споров. В качестве примеров, иллюстрирующих применение прагматистской максимы, Пирс приводит понятия твердости, тяжести, силы, а также свободы воли. Однако наиболее важным следует считать определение посредством прагматистской максимы понятия реальности. Реальное есть «то, чьи свойства независимы от того, что кто-либо может о них думать» (3: 289). т. е. нечто независящее от нашего мышления. Мы признаем нечто за реальное тогда, когда оно аффицирует наши чувства. Пирс различает «внешнюю реальность» и реальность нашего внутреннего мира. И сон и научный закон в определенном смысле реальны — оставаясь продуктом человеческого сознания, они получают реальное существование, независимое от последующей работы сознания. В приведенном определении, однако, еще не была использована прагматистская максима, а именно она должна сделать ясной идею или понятие реальности. Понятие реальности, согласно этому правилу, сводится к «ощутимым следствиям», которые вызывают реальные вещи. Следовательно, нам необходимо выяснить, в чем состоят эти следствия. Главное действие (ощущаемое следствие) реальных вещей — производство верований. «Что есть прагматизм?». Мы остановимся на нескольких идеях, принципиальных для понимания сути прагматизма. Если прагматизм есть философия, то на повестку дня выходит вопрос о том, что следует считать началом философии. С точки зрения Пирса, начинать необходимо не с универсального сомнения, как это делал Декарт, и не с наблюдения над первыми впечатлениями чувства, как это делает эмпиризм или позитивизм, а с «состояния, в котором вы нагружены неизмеримой массой уже сформированного познания и от которого вы не смогли бы себя освободить, даже если б захотели» (1: 164). Процедура «очищения», столь любимая философией от Декарта до эмпириокритиков и даже Гуссерля, не может, как оказалось, обеспечить адекватное познание предмета, привнося слишком много своего, обусловливая конечный результат теоретическим элементом собственного производства. И все же прагматизм занимается «очищением», однако это уже совершенно иная процедура, получившая намного позднее, с легкой руки Л. Витгенштейна, название философской «терапии». Речь идет об очищении философии от «онтологической метафизики», которую Пирс, не стесняясь в выражениях, называет «бессмысленной тарабарщиной» и «откровенным абсурдом». Что же мы получаем в результате? Как пишет Пирс, «в очищенной от подобного сора философии останется лишь ряд проблем, которые вполне возможно исследовать при помощи свойственных подлинным наукам методов наблюдения» (1: 169). Приведенное высказывание напоминает аналогичные высказывания у позитивистов. Но Пирс не возражает против такой параллели и даже называет прагматизм разновидностью «пропе-позитивизма», т. е. учением, близким к позитивизму. Отличает же прагматизм от позитивизма следующее: (1) сохранение очищенной философии; (2) полное принятие основного корпуса наших инстинктивных убеждений; (3) настойчивая приверженность истине схоластического реализма. Понятие истины в прагматизме. Представители прагматизма в целом и Пирс в частности никогда не были поклонниками понятия «истины». Важна не истина, а твердое мнение или верование. Когда мы достигли твердого и однозначного мнения по тому или иному поводу, то мы уже не интересуемся его истинностью или ложностью. Мы, конечно, можем сказать, что стремимся к «истинному мнению», но разве мы не относимся к каждому своему мнению как к истинному? В этом смысле Пирс — сторонник избыточной теории истины. Основной тезис этой теории можно сформулировать так: сказать, что нечто истинно, означает ничего не сказать, поскольку свойство истинности никак не влияет на понятие предмета, ничего к нему не прибавляет. Таким образом, понятие истины оказывается излишним или избыточным. Применительно к прагматизму принятие избыточной концепции истины означает, в частности, что высказывание «Некоторое верование является истинным» считается тавтологией. К когерентной концепции истины, наиболее распространенной среди современников философа, Пирс относится отрицательно. И, конечно же, Пирс является противником метафизической абсолютизации истины. Фундаментальная роль сомнения в процессе познания заставляет переосмыслить понятие истины. При этом необходимо различать два понятия истины: (1) верование, приводящее к поведению, удовлетворяющему соответствующее желание, и полезное для выживания и приспособления человека; (2) конечное убеждение большинства как закономерный и необходимый итог долгого исследования, проведенного при помощи научного метода. Понятие истины в первом случае раскрывает следующее определение, которое Пирс приводит в примечании от 1903 г. к статье «Закрепление верования»: «... Истина есть не более и не менее, чем характер некоторой пропозиции, состоящий в том, что убежденность в этой пропозиции, если таковая обоснована опытом и рефлексией, приведет нас к такому поведению, которое бы способствовало удовлетворению желаний, каковые эта убежденность будет определять. Говорить, что истина значит нечто большее, — значит утверждать, что она вовсе не имеет значения» (1: 104). Но тогда истинным оказывается любое убеждение, в силу того, что мы просто не можем думать о нем как о неистинном, поскольку оно перестало бы тогда быть нашим убеждением. То, что человек считает истинным, одновременно является его твердым верованием. Таким образом, осознание истины с необходимостью сопровождается уверенностью, состоянием, противоположным сомнению. Во втором случае истинное в полной мере коррелирует с реальным. В статье «Как сделать наши идеи ясными» Пирс приводит следующее, более узкоепо сравнению с вышеприведенным, определение истины: «Под мнением, которому судьбой уготовано стать общим соглашением всех исследователей, мы имеем в виду истину, объект же, репрезентируемый таким мнением, есть реальный объект» (1: 151). Предпочтение, отдаваемое понятию научной истины, сопряженному с понятием реальности, заставляет Пирса критически пересмотреть тезис об отождествлении истины и верования. Психологическая убежденность не может заменить объективность. Поздний Пирс еще более сужает понятие истины, ограничивая его тем, что принимается за истинное в науке. Понятие истины характеризуется теперь фаллибилизмом (от англ. fallible — подверженный ошибкам, погрешимый), в соответствии с которым в идею «научной истины» входит и то, в какой мере она является ложной. Одним из негативных следствий фаллибилизма является устранение из науки понятия абсолютной достоверности, основы и двигателя научного прогресса. Пирс, всю свою жизнь глубоко преданный науке, как уже мы неоднократно отмечали, находит выход из сложившейся ситуации посредством понятия «практической достоверности». То, что оправдывает себя на практике, является практически непогрешимым и практически достоверным. Дедукция, индукция и абдукция. Любое знание, согласно Пирсу, должно исходить из фактов и подтверждаться наблюдением. Что же касается «типов рассуждения», которые приводят научное исследование к некоторому положительному результату, т. е. знанию, то таковых имеется три: дедукция, индукция и абдукция (ретродукция). Центральную роль в научном поиске призвана играть абдукция, хотя провести фиксированные границы между тремя указанными способами познания крайне сложно. Замечание, которое действительно в отношении всех трех методов, касается их рациональной природы — в каждом из них процесс познания остается последовательно рациональным. Речь идет, таким образом, о наиболее общей типологизации именно научных методов, т. е. таких, которые могут обеспечить объективность исследования и обоснованность его результатов. Нововведением Пирса, конечно же, является абдукция, которая дополняет два хорошо известных метода — дедукцию и индукцию, которые, как полагала предшествующая философия, исчерпывают наши возможности в области познания. То, что одни, как, например, Декарт, отдавали предпочтение дедукции, а другие, такие как Бэкон, — индукции, не мешало представителям обоих лагерей соглашаться по поводу того простого факта, что человеческое познание может двигаться либо от общего к частному, либо, напротив, от частного к общему. В это само собой разумеющееся утверждение Пирс вносит существенные поправки. К научной гипотезе — не важно, с помощью какого метода она была получена, — Пирс предъявляет два следующих требования: (1) гипотеза должна быть сформулирована в вопросительной форме и (2) должна быть подвергнута экспериментальной проверке. Понятие гипотезы оказывается центральным для любого из методов — для дедукции, поскольку она проверяет первоначальную гипотезу частными фактами, для индукции, поскольку она на основании экспериментальных данных приводит к обобщающей гипотезе. Метод абдукции отвечает за рождение гипотезы и в этом смысле обладает первостепенной значимостью. Согласно Пирсу, абдукция включает в себя две стадии: порождение объяснительных гипотез и выбор из этих гипотез наиболее перспективного объяснения для рассматриваемого явления. В то же время в работах Пирса имеется не одно, а несколько нередко конфликтующих разъяснений относительно того, какие именно рациональные процедуры определяют нахождение и выбор объяснений. Знаменательное свойство абдукции — ее рискованность. Действительно, выбор из спектра гипотез, пусть даже под условием экспериментальной проверки, представляет собой рискованное предприятие, поскольку определяет дальнейший ход исследования. Оправданность выбора выяснится только в конце. В связи с этим Пирс говорит о необходимости исследовательского «чутья» или «инстинкта», так как «у человека не имеющего склонности, которая согласуется со склонностью самой природы, нет вообще ни малейшего шанса понять природу» (1: 310). Джеймс Быстрое и широкое распространение прагматизма в США началось с 1906 г., когда последователь Ч. Пирса Уильям Джеймс (1842— 1910) прочел курс популярных лекций, каковые были изданы под названием «Прагматизм». В 1869 г. Джеймс получил диплом медицинского факультета в Гарварде. С 1873 г. он преподавал в Гарварде анатомию и физиологию, а с 1875 г. приступил к преподаванию психологии. Джеймс стоял у истоков становления психологии как научной и учебной дисциплины. В 1890 г. вышла его книга «Начала психологии», которая получила большую известность среди современников. В ряду главных произведений Джеймса необходимо упомянуть следующие: «Воля к вере» (1897), «Многообразие религиозного опыта» (1902), «Моральный эквивалент войны» (1904), «Прагматизм» (1907), «Плюралистическая Вселенная» (1909). Джеймс о прагматизме. Прагматизм, как его понимает Джеймс, есть «метод улаживания философских споров». Задача философии, согласно Джеймсу, состоит в том, чтобы «указать, какая получается для меня и для вас определенная разница в определенные моменты нашей жизни, если бы была истинной та или иная формула мира». Иными словами, если никакой разницы не обнаруживается, то и спорить не о чем, т. е. исчезает предмет возможной дискуссии. Прагматизм, далее, характеризуется как учение, у которого отсутствуют незыблемые постулаты или догмы. Вместо этого прагматизм предлагает учение о методе. Таким образом, как полагает Джеймс, понятие прагматизма исчерпывается понятием прагматического метода. В применении прагматического метода ценностью обладают не частные результаты, а новые точки зрения (attitudes). Трактовка истины в прагматизме Джеймса. В очерке «Гуманизм и истина» (1904) Джеймс критикует наиболее распространенную теорию истины, согласно которой истина является отражением реальности. В то же время Джеймс не отказывается от требования, которое подразумевает эта теория, — «согласия с реальностью». Джеймс лишь переосмысливает, дает новую интерпретацию данному тезису. Согласие с реальностью означает, что истинная идея помогает нам лучше с этой реальностью работать. Мысли как часть нашего опыта, согласно Джеймсу, являются истинными лишь в той мере, в которой они помогают нам приходить в удовлетворительное отношение к другим частям нашего опыта. Критерием истины служит полезность. Утилитаризм Джеймса не следует сужать — польза, приносимая той или иной идеей, касается не только конкретной или ближайшей ситуации, но и будущего. Истина поэтому предстает всегда как историческая — это соответствующая данному времени научная картина мира. Отсюда, кстати, следует и еще одно понимание прагматизма — прагматизм как «генетическая теория истины». Реальность представлена ощущениями, предсуществующими верованиями, абстрактными отношениями, которые составляют предмет математики. Т. о. не только истина, но и реальность оказываются изменчивыми. Радикальный эмпиризм Джеймса. Радикальный эмпиризм рассматривает в качестве равноправных элементов опыта наряду с предметами (в качестве которых могут выступать вещи, восприятия, идеи и т. п.) любые отношения, данные в опыте. Постулируется, что отношения, связывающие элементы опыта, должны быть даны в опыте, а не привнесены в него извне. Джеймс выделяет два вида отношений, которые являются для опыта существенными, те отношения, благодаря которым возможно универсализировать понятие «опыта», рассматривая все существующее как его часть и полагая, что за его пределами ничего не существует. В роли таких отношений выступают: (1) отношения перехода, которые отражают непрерывность опыта (одного сознания) или прерывность опыта (между различными сознаниями); (2) отношения замещения, которые детерминируют процесс познания и способ фиксации и сохранения его результатов. Отношения замещения лежат в основе понятийного мышления. Замещение имеет место, когда мы замещаем вещь словом или ряд вещей понятием. Непрерывность опыта, как полагает Джеймс, может спасти от метафизики. Так, понятия субъекта и объекта характерны, согласно Джеймсу, для определенной метафизики. Их вынужден использовать трансцендентализм, теория отражения, концепции здравого смысла. Однажды введенные данные понятия закрепляют непреодолимый разрыв между познаваемым и познающим. Но сами эти понятия — познаваемое и познающий — становятся излишними, если мы в полной мере осознаем непрерывность опыта. Вместо субъекта и объекта познания следует говорить о самом познании, которое может быть или не быть успешным. Познание успешно, если подтверждается в последующей практике. Тезис о том, что сознание не существует, означает, с точки зрения построения философской системы, что сознание перестает быть «эпистемологической необходимостью». Следующее важное положение радикального эмпиризма — плюрализм. Опыт видится не как стройная система с еще не исследованными звеньями, а как хаос. Хаос теорий (замещающих непосредственный опыт) и эмоций (непосредственного опыта как такового). Таким образом, следует различать «чистый опыт» и осмысление опыта. Любая система — результат осуществленного осмысления, которое может лишь приближаться (к примеру, если мы отказываемся от метафизики) к тому, что нам дано в опыте непосредственно. Отсюда постулат о неопределенности истинной картины мира. Единственным однозначным критерием знания является его подтверждение в опыте, однако большая часть наших знаний удостоверяема лишь в возможности. Этот факт принимается Джеймсом не как несовершенство познавательного процесса, а как его неотъемлемая черта. Понятийное или концептуальное познание, хотя и оторвано от опыта (будучи вторичным), обеспечивает достаточно высокую эффективность, масштабность и скорость познания, которые были бы неизмеримо меньше, если бы мы каждый свой шаг согласовывали с собственными ощущениями. Дьюи Джон Дьюи родился в 1859 г. в городке Берлингтон, штат Вермонт, в семье владельца табачной фабрики. В 1879 г. он окончил университет штата Вермонт по программе свободных искусств и поступил на работу в среднюю школу. Неслучайно, что его интерес к философии и психологии был непосредственно связан с его педагогической практикой. Дьюи считается основателем так называемой «прогрессивной школы». В 1884 г. получил степень доктора философии в университете Джонса Хопкинса. В качестве темы своей диссертации Дьюи избрал психологическую теорию Канта. В 1894 г. Дьюи получает должность профессора и декана факультета философии, психологии и педагогики Чикагского университета. С 1904 по 1930 г. Дьюи преподавал в Колумбийском университете, в котором после своей отставки занимал пост почетного профессора. Дьюи умер в 1952 г. в Нью-Йорке. Среди основных работ Дьюи назовем следующие. Работы, посвященные образованию: «Образование. Школа и общество» (1899), «Опыт и образование» (1938), «Психологи» (1886). Исследования по философии: «Как мы мыслим» (1910), «Очерки экспериментальной логики» (1916), «Реконструкция в философии» (1920), «Человеческая природа и поведение» (1922), «Опыт и природа» (1925), «Поиск достоверности» (1929), «Логика как теория исследования» (1938), «Свобода и культура» (1939). Инструментализм Дж. Дьюи. На формирование философских взглядов Дьюи большое влияние оказал У. Джеймс, однако Дьюи развивает свою, оригинальную версию прагматизма, которая получила название «инструментализм». Мышление носит инструментальный, целеполагающий характер. Акты познания необходимо рассматривать в контексте проблематических ситуаций, с которыми сталкивается человек как в своей повседневной жизни, так и в научной деятельности. Анализ ситуации приводит к возникновению гипотез, которые могут быть правильными, т. е. приводящими к решению проблемы, а могут быть неправильными, и тогда требуется новое исследование и новые гипотезы. Как и Пирс, Дьюи полагает в качестве базовой структуры процесса мышления исследование. Суть исследования заключается в переходе от индетерминированной ситуации к ситуации, которая благодаря проведенному анализу неизвестных элементов и их взаимосвязи воспринимается как единое целое. Разум, согласно Дьюи, образует единое целое с организмом человека и формируется не до, а в процессе опытного освоения мира. Таким образом, мышление оказывается функцией человеческой деятельности. Предпочтительным методом решения возникающих проблем Дьюи считал научный метод, поскольку в нем воплощается подлинная свобода мышления. Иными словами, в отличие от иных областей культуры, которые связаны традицией и вековыми догматами, наука ориентирована на критическое познание данности, фактов как элементов проблематической ситуации. В то же время свобода мышления имеет, как полагал Дьюи, свои пределы. Уважение к традиции дисциплинирует мышление, задает ему верное направление, тогда как духовная анархия делает человека рабом своих сиюминутных желаний. Понятие «опыта» является центральным и для педагогической концепции Дьюи. Образование он определяет как «такую реконструкцию или реорганизацию опыта, которая увеличивает значимость уже имеющегося опыта, а также способность направлять ход усвоения последующего опыта». Понятие истины в инструментализме Дж. Дьюи. Взгляды Дьюи на истину во многом повторяют Пирса. Дьюи соглашается с фаллибилизмом Пирса, а также с тем, что «истиной» достойно называться лишь то, что признается истинным научным сообществом, а не то, что признается таковым в повседневной жизни. Частные (промежуточные) научные высказывания также не следует называть «истинными» или «ложными». Являясь лишь инструментами исследования, они выступают в качестве эффективных или неэффективных, уместных или нет и т. п. Только итоговое суждение (результат исследования), поскольку оно находится в согласии с тем идеальным пределом, к которому стремится наука, может считаться истинным. Признание существования научных истин сочетается у Дьюи с отрицанием существования вечных истин, поскольку научная истина всегда только относительна, а вечная истина претендует на абсолютность. Поэтому не должен вызывать удивления тот факт, что, по мнению Дьюи, ни философия, ни мораль, ни религия не могут дать человечеству раз и навсегда установленные истины. Литература1.Пирс Ч. С. Начала прагматизма. Том 1. СПб., 2000. 2.Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков. Том 2. СПб., 2000. 3.Пирс Ч. С. Избранные произведения. М., 2000. 4.Пирс Ч. С. Принципы философии: В 2 т. СПб., 2001. 5.Pierce Ch. S. Collected Papers. Harward University Press: vol. 1 - 6, 1931 - 1935; vol. 7-8, 1958. 6.Writings of Charles S. Pierce: a Chronological Edition. Indiana University Press (1982, 1984, 1986, 1989, 1993, 1999): vol. 1 1857-1866, vol. 2 1867-1871, vol. 3 1872- 1878, vol. 4 1879- 1884, vol. 5 1884-1886, vol. 6 1886- 1890. 7.Мельвиль Ю. К. Чарльз Пирс и прагматизм. М., 1968. 8.Джеймс У. Воля к вере. М., 1997. 9.Джемс В. Прагматизм. СПб., 1910. 10.Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1991 (СПб., 1992). 11.Красненкова И. П. Проблема человека в прагматизме У. Джемса //Антропологическая проблематика в западной философии / Под ред. М. А. Гарнцева. М.:МГУ, 1991. С. 47-55. 12.Дьюи Д. Школа и общество. М., 1907. 13.Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. М., 1915 14.Дьюи Д. Свобода и культура. Лондон, 1968. 15.Кроссер П. Нигилизм Д. Дьюи. М., 1958. Глава 12. ПСИХОАНАЛИЗ Психоанализ, основоположником которого является Зигмунд Фрейд (1856— 1939), появился в 1895 г. как проект научной психологии, которая на основе объективного наблюдения и анализа отдельных явлений представила бы полную картину внутренней духовной жизни. Психоанализ, во всех своих вариациях, с самого начала претендовал на то, чтобы стать центральной теорией индивидуальной психической жизни человека и человеческой культуры в целом. Классический психоанализ 3. Фрейда. Фрейд начинает как медик, физиолог, увлекается гипнозом и физиотерапией как способами лечения истерии и в 1895 г. публикует результаты совместных с Йозефом Брейером «Исследований истерии», где делается вывод о преобразовании подавленных эмоций в физические истерические симптомы. На основе наблюдений делается вывод о внутреннем конфликте психики как причине нервных заболеваний. В следующей работе «Толкование сновидений» (1899), сразу сделавшей Фрейда знаменитым, содержатся основные открытия психоанализа. Прежде всего это открытие внутренней структуры психического — его двух составляющих: сознательной и бессознательной части, — и постановка проблемы исследования бессознательного. Именно бессознательное содержит болезненные желания, которые находятся под сознательным запретом, изгнаны из сознания и именно поэтому оказываются источником конфликта, который ведет к неврозу. Описывая основные функции двух составляющих человеческой психики и говоря о факторе цензуры, Фрейду было важно то, что он сразу обнаружил способ проникнуть в сферу бессознательного — это сны, которые он назвал «королевскими воротами в бессознательное», а также оговорки, ошибки и другие неосознанные выражения желаний. По сути дела в этом состояло и другое открытие Фрейда, связанное с будущей терапевтической практикой психоанализа: выявление и осознание этих вытесненных желаний, этого внутреннего конфликта бессознательного с моим сознательным Я через его проговаривание само по себе оказывает лечебное воздействие, снимает внутренний конфликт, устраняет физические симптомы невроза. Следом за «Толкованием...» выходят «Психопатология повседневной жизни», «Шутки и их связь с бессознательным» (1900), а в 1905 г. — работа «Три очерка по теории сексуальности», которая представила два, еще более скандальных, открытия Фрейда — выводы о сексуальной природе бессознательного и о поэтапном формировании психического, связанным с развитием детской сексуальности. Фрейд объясняет содержание бессознательного влечениями, прежде всего детскими.Параллельно развивается теория либидо (от латинского «желание»), под которым Фрейд понимает исходную энергию, сексуальную по своей природе, лежащую в основе всех преобразований влечения. Это первое определение либидо рассматривает его как объектное, т. е. направленное на овладение определенной целью, и конечное, т. е. связанное с удовлетворением желания. В качестве примера Фрейд рассматривает детскую игру Da-Fort — Ближе-Дальше, суть которой состоит в том, что ребенок выбрасывает игрушку из манежа и требует, чтобы ее ему вернули, получив игрушку обратно, ребенок снова ее выбрасывает так, что сам достать не может и снова требует ее назад. Интерпретация Фрейда состоит в том, что эта игра демонстрирует объектность желания ребенка: он стремится бесконечно повторять удовлетворение от момента овладения недоступной ранее игрушкой. Либидо, с точки зрения Фрейда, всегда будет количественным понятием, с помощью которого можно «энергетически» — определенными характеристиками «сгущения», «смещения», «перемещения» — объяснять психосексуальные явления. Сначала, правда, у Фрейда либидо противопоставляется влечению к самосохранению, позже, когда самосохранение толкуется тоже из сексуального инстинкта, эта концепция трансформируется в относительное противопоставление влечения либидо и влечения к смерти. Даже когда эта энергия может быть десексуализирована, например, в процессе так называемой сублимации — влечение, которое направлено на социально значимые объекты (например, художественное творчество), то Фрейд объясняет это как вторичный процесс отказа от собственно сексуальной цели. В этой же работе рассматривается Эдипов комплекс как принципиально важный для формирования основных структур психического и завершения периода детской сексуальности: именно в период полового созревания (пубертатный) ребенок вынужден под влиянием социальных запретов (прежде всего табу на инцест — кровосмесительные сексуальные отношения) изменить объект своего влечения с ближайшего — родителя противоположного пола — на внешний объект. Решающим для мальчиков становится угроза кастрации со стороны отца, под влиянием которой они принимают запрет и преодолевают комплекс, вытесняя в бессознательное то двойственное отношение к отцу, которое связано с переживанием Эдипова комплекса. Если этой смены не произошло и ребенок не решил проблему выбора внешних возможных объектов влечения, то происходит конфликтное вытеснение влечения в сферу бессознательного, оставляя неразрешимым Эдипов комплекс как источник неврозов взрослой психики. Позже в работе «О нарциссизме. Введение» (1914) Фрейд специально остановится на случае, когда новым объектом влечения становится сам субъект — тогда возникает другой комплекс, комплекс Нарцисса. Одновременно чувство ревности по отношению к родителю того же пола сменяется стратегией создания модели, идеала по его образцу и на основании этих процедур формируется сознательное Я с моральными принципами, принятием социальных запретов. Процесс формирования психического понимается, таким образом, как процесс социализации — процесс принятия индивидом существующих в обществе запретов, норм, правил и ценностей. В 1913 г. в «Тотеме и табу» Фрейд рассмотрит миф-гипотезу об убийстве праотца и последующем одновременном введении культа тотема как образа праотца и табу на инцест — как сыновней реакции раскаяния и стыда за это убийство. По мысли Фрейда, несмотря на проблематичность мифа, это момент начала человеческой истории.Как потом подчеркнет К. Леви-Стросс, это момент отличия культуры от природы. Для Фрейда обращение к мифу означало прежде всего, что переживание Эдипова комплекса не связано с конкретным поведением родителей, а является универсальной необходимостью введения запрета для формирования полноценных структур психического. С 1920 г. в работах «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), «Я и Оно» (1923), «Запреты, симптомы и беспокойство» (1926), «Очерк психоанализа» (1938) Фрейд вводит в структуру психического Сверх-Я как цензурирующую инстанцию, ответственную за самокритику, принятие социальных норм и законов, наличие Я-идеала. Таким образом, картина так называемой первой топики, где бессознательное, которое в принципе не осознается, может оказаться в конфликте с вербализованным сознанием и тогда следует использовать потенциально осознаваемое предсознание, для того чтобы установить связь с бессознательным, изменяется. Ей на смену приходит тоже трехчленная структура: Оно, как главная характеристика бессознательного с господствующим принципом удовольствия, Я, модифицируемая как со стороны Оно, так и со стороны Сверх-Я, и Сверх-Я, инстанция, которая начинает формироваться с первого переживания Эдипова комплекса (то есть где-то с трех до пяти лет). Однако все инстанции порождаются и включают в себя бессознательное. Концепция так называемого классического психоанализа Фрейда своеобразно продолжила традиции натурализма, представив определение сознания через внутренний конфликт основания поведения, страсти, и рациональной составляющей, мысли, — пытаясь показать универсальность их общего основания — психической энергии бессознательного. Аналитическая психология К.Г.Юнга. Карл Густав Юнг (1875—1961) в своей концепции бессознательного сделал акцент именно на такой широкой энергетической трактовке либидо. Этим характеризуется его развитие фрейдовской концепции с 1906 г. вплоть до разрыва всех отношений с Фрейдом в 1913 г. из-за теоретических разногласий, изложенных, в частности, в работе Юнга «Метаморфозы и символы либидо» (1912). С его точки зрения, это универсальная витально-психическая энергия. Ее регрессия приводит к возникновению неврозов, которые характеризуются воспроизведением архаических образов. Формирование психического происходит, таким образом, в процессе индивидуации — осваивания, присваивания как личного, уникального архаичного культурного опыта, накопленного поколениями людей и выраженного в символической форме, прежде всего в сказках, суевериях, мифах, религиях. С этой точки зрения невротически опасны как восточные культы, предполагающие полное растворение индивидуальности во всеобщем, так и европейская десакрализованная культура, формирующая экстравертированного индивида. Бессознательное, таким образом, согласно работе Юнга «Отношение между Я и бессознательным» (1928), включает в себя коллективное и безличное — архетипы, образы коллективного бессознательного. У Юнга можно выделить несколько аспектов понимания архетипов. Во-первых, он рассматривает архетипы как психические корреляты инстинкта, «автопортреты инстинкта». Они универсальны для всех культур. На основе понимаемого таким образом архетипа и строится человеческое поведение — каждый раз по-разному. Например, в каждом человеке сочетаются два начала — анима и анимус. Архетип женственности — анима — связан с эмоциональным началом. Он может реализовываться как в гармоничном поведении человека — когда анима позволяет устанавливать теплые отношения с другими людьми, жить в мире с самим собой, так и проявлять себя отрицательно: вызывать неустойчивость настроения, капризность, слезливость и пр. Противоположное начало — анимус — олицетворяет мужское рациональное начало. Оба архетипа могут быть представлены символически. Современный человек сталкивается с этим во сне. Однако их природа, согласно Юнгу, неясна. Он отмечает, что это особая субстанция, результат спонтанного порождения нейродинамических структур мозга. Но при этом он считает, что архетип может быть чистым актом восприятия. Главное, что архетип нельзя осмыслить дискурсивно. Психология может только описывать, толковать и типизировать. На этом построена концепция типов характеров, изложенная в работе «Психологические типы» (1921), которая активно используется сегодня в соционике. Юнг считал, что концепция бессознательного — принципиально нового иррационального объекта исследования — требует новой по типу научной рациональности: она должна исходить не из причинных зависимостей, а из синхронии исследуемого объекта. Бессознательное должно рассматриваться вне временной последовательности как значимое целое (например, работа «Психология и алхимия» (1944)). Архетипы бессознательного одновременно являются первоосновой мира, который выстраивает субъект, и структурами психики, с помощью которых мы можем говорить о человеческом сознании и культуре. Сами они вне времени и вне пространства — только так можно объяснить целый ряд парапсихических явлений. Индивидуальная психология А.Адлера. Альфред Адлер (1870—1937) предложил другую трактовку либидо — как стремления к превосходству. Фрейд не разделял взглядов Адлера, поэтому ему и девяти его единомышленникам, кстати, активным социал-демократам, пришлось покинуть кружок Фрейда. В работе «О нервозном характере»(1912), через год после разрыва с Фрейдом, Адлер изложил не только иное понимание либидо, но и принципиально иное объяснение поведения человека, исходя не из каузальности, а из финальности. Человек — существо целеустремленное, поэтому все его поступки, мысли, чувства должны быть истолкованы, исходя из той цели, которую поставил перед собой человек. Считается, что Адлер реализовал прежде всего ницшеанские мотивы объяснения отдельной личности с точки зрения исходного стремления к самоутверждению. Воля к могуществу присуща и детям, и женщинам, и физически слабым мужчинам. Общество же специально устанавливает запреты на открытое проявление этого стремления к господству. Сферой, где наиболее свободно реализуется это стремление, должна стать политика. Поэтому на первый план выходят проблемы воспитания, а среди воспитательных задач первой, по мысли Адлера, должна быть задача воспитания социального чувства. Экзистенциальный психоанализ Э.Фромма. Эрих Фромм (1900—1980) считал, что в основе психического уже сложно найти собственно биологическое основание. Решающее значение для формирования психического как так называемого социального характера имеют социальные связи и отношения («Человек сам по себе» — 1947). Это экзистенциальные дихотомии, или противоположности: человек является частью природы, законы которой он не может изменить, но в то же время он создает свой человеческий культурный мир, противоположный природе; человек конечен и смертен, но он утверждает вечные ценности; человек одинок и уникален, но стремится найти общее с другими людьми; человек чужд этому миру, но стремится к гармонии с ним. Человек стремится к свободе, но при этом часто бывает так, что он стремится и избежать всего того, что со свободой связано («Бегство от свободы» — 1941). Каждый выбирает из этих положений, стремясь сделать этот выбор осмысленным: как, например, сгоревший на костре за свои убеждения Джордано Бруно или согласившийся изменить свои взгляды ради того, чтобы выжить, Галилео Галилей («Иметь или быть» — 1976). Так появляются понятия свободы, истины, справедливости, но именно в силу необходимости выбирать появляются и негативные ответы — ненависть, зло, жестокость, агрессия и т. п. Они не биологичны, не природны — они укоренены в человеческом характере. Поэтому создается видимость автоматизма. Другие направления и школы психоанализа. Следует отметить, что в начале века было несколько центров психоанализа за пределами Вены, где работал Фрейд: Юнг в Цюрихе, Шандор Ференци в Будапеште, Джонс в Лондоне, Карл Абрахам в Берлине. Последние занимались специально детским психоанализом, творчески развивая идеи Фрейда. К их последователям относится, например, и Мелани Кляйн (1882 —1960), чьи идеи о детском воображении, акцент, который она сделала не на реальном, а на символическом измерении детских фантазмов, повлияли на появление лакановского психоанализа. «Структурный» психоанализ Ж. Лакана. Жак Лакан (1901 — 1981) рассматривал свою концепцию психоанализа как развитие идей Фрейда, как интерпретацию противоречивых моментов в текстах основоположника психоанализа. Концепция Лакана формулировала традиционную проблематику психоанализа с учетом современного контекста гуманитарного знания. Поэтому на первый план вышли вопросы, связанные с языком — о смысле, о плане выражения, тем более что развитие практики психоанализа к середине века сместило акцент с монолога пациента, обращенного к врачу, на диалог клиента и аналитика. Терапия превращается в своеобразное обучение. То, что было открытием Фрейда и касалось практики психотерапии неврозов, становится самостоятельной теоретической проблемой — психическое обусловливается как желанием, так и способом выражения желания (репрезентацией). Основанием понимания этой обусловленности у Лакана является понимание Я как расщепленного, неоднозначного, изменчивого. Центральным открытием Лакана стало обнаружение на доэдипальной стадии развития психического поворотного момента в конституировании Я: так называемой стадии Зеркала. С докладом «Стадия Зеркала как формирующая функции Я в том виде, в каком она предстает в психоаналитическом опыте» Лакан выступил на 16-м Международном психоаналитическом конгрессе в Цюрихе (1949). Это период подготовки к речевой деятельности, когда ребенок начинает узнавать свое собственное отражение в зеркале. Об этом моменте Фрейд, на которого ссылается Лакан, писал еще в 1914 году («О нарциссической любви»): он обратил внимание на то, что еще до формирования структур психического ребенок способен сконцентрировать свое внимание на самом себе. Этот момент Лакан считает принципиально важным для понимания того, что все-таки представляет собой субъективность. По мысли Лакана, это не просто концентрация внимания, это выстраивание себя, придание самому себе значения. Но откуда берется значение до появления развернутой речи и развернутых структур психического? Все дело в том, что Я ребенка, смотрящее в зеркало, обнаруживает в зеркале не только того, кто смотрит, — он обнаруживает то Я, на которое смотрит тот Другой, кто поднес егок зеркалу, кто смотрит на него. Т. е. в зеркале Я видит то, что хотят увидеть Другие, прежде всего Мать ребенка. Таким образом, формирующееся Эго оказывается расщеплено на Я, которое смотрит, и Я, на которое смотрят. Эта нестабильная субъективность, эта внутренняя изменчивая оппозиция сохраняется при освоении языка и переносится на то, как конституируется субъективность посредством языка: всегда есть Я, которое произносит, артикулирует, и Я, которое говорит, то есть воспроизводит, отсылает к смыслам. Субъект оказывается не индивидом, целостным и определенным, а дивидом, фрагментированным и изменчивым. Язык метафоричен, может быть, даже метонимичен: означаемое и означающее взаимно превращаются друг в друга, они не противоположны друг другу — это лишь временные границы, смысл которых — постоянно выходить за эти границы. Лакан приводит формулу F (S'\ s)S~S( + )s, где означающие S и S' приблизительно равны означаемому, которое постоянно переходит границу с означающим — S ( + ) s. Лакан критикует Фромма и К. Хорни за то, что, по их мнению, можно говорить о стабильном Эго. С точки зрения Лакана, Я всегда находится в поисках себя и соотнесении себя с взглядом Другого, смыслами Другого — т. е., выходит, что Я может быть репрезентировано только через Другого. В дальнейшем именно эти идеи Лакана подтолкнули к радикализации теории означающего Другого. Расщепленность Я, дихотомия, лежащая в основании идентичности оказывается, таким образом, не окончательной. Это связано с другим принципиальным положением концепции Лакана — объяснением природы человеческого желания, лежащего в основе психического, как необъектного и бесконечного. Т. е. объект желания имеет символическую природу, представляет собой исчезающее означаемое. Иллюстрацией этому становится лакановский вариант интерпретации хрестоматийной детской игры Da Fort: ребенок испытывает желание и удовольствие от переживания желания не тогда, когда обладает игрушкой, а тогда, когда игрушка недосягаема для него, когда он стремится к ней, когда он желает ее; соответственно, повторяющееся действие выбрасывания игрушки связано с тем, что ребенок стремится вновь испытать влечение к недоступному объекту. Понимание желания Лаканом связано с его пониманием гегелевского Абсолюта, а точнее, с интерпретацией гегелевской философии А. Кожевом, семинары которого слушал Лакан. Разбирая идеи гегелевской «феноменологии духа», Кожев делает вывод, что человек оказывается абсолютным отрицанием отрицательности, поскольку в конкретном действии — труде, борьбе — он есть реальное присутствие ничто в бытии. Язык пытается определить то, что несет человеку страдание и смерть, — природу, поэтому в конечном счете язык не может ничего определить, он бессодержателен, так же как и сам человек, историчен и временен, хотя и стремится схватить убийственный для него Абсолют. Именно язык дает иллюзию всемогущества — он не связан с предметной реальностью, поэтому он может изобразить все что угодно, поскольку в конечном счете он изображает смерть. Лакан «гуманизирует» негативную деятельность Абсолюта, которая представлена Кожевом. Желание всегда направлено за пределы непосредственного объекта как такового (как предмета, которым можно обладать), поскольку объектом желания является не предмет, а символическое. То же относится и к переживанию Эдипова комплекса и утрате матери в качестве потерянного объекта, и к переживанию кастрационного комплекса. Порядок действительности, который описывался Фрейдом как реальный, предстает символическим. В переживаемомнет определенных фиксированных критериев. В отличие от афоризма Фрейда «Анатомия — это судьба», Лакан вводит идею маскарада идентичностей, проявления символических определений сексуальности, не связанных и не определенных биологическими критериями сексуальности. Эти идеи, наиболее подробно изложенные в статье «Значение фаллоса», повлияли на американский постлаканизм (Ж. Роуз, Л. Митчелл и др.), разрабатывающий проблемы сексуальной идентичности, а также в целом на так называемую гендерную философию, понимающую пол как социальный конструкт. Субъект не подчиняется внешнему закону — он подчиняется тому, что предстает как внутреннее, как инстанция символического. И три типа идентификации, которые мы видели и у Фрейда, — по модели родителя, по выбору объекта и по объективному отношению к модели идентификации — приобретают у Лакана принципиально иной — символический характер. А это значит, что ни в случае первых — либидинальных — отношений, ни в последнем случае у субъекта не может быть фиксированного отношения к той или иной модели идентичности. На одном из первых семинаров — а Лакан вел их в течение почти 20 лет вплоть до 1980 г. — он уточняет, что это не логическая логика, а топологическая логика. Проблема понимаемой таким образом субъективности — это проблема организации пространства. Одним из самих ярких образов, иллюстрирующих образ лакановского понимания субъективности, оказывается лента Мебиуса: перекрученная и склеенная полоска бумаги оказывается бесконечным движением по обеим сторонам бумаги без всякой возможности определить, где лицевая, где оборотная ее сторона. Три инстанции психического, которые обнаруживает Лакан, — это реальное, символическое и воображаемое. При этом в отличие от Фрейда Лакан не связывает план реального с объективно происходящими или происходившими событиями — этот план никогда не дан непосредственно, он всегда «вне игры», но в то же время все развертывание психического происходит по поводу реального, и в этом смысле реальное «всегда здесь». Реальное Лакана подобно понятию влечения у Фрейда — это причина желания, то, что продуцирует объект желания бесконечными определениями, этость, данная в самом психическом. Сам Лакан описывает реальное как то, что должно появиться в результате работы аналитика как иллюзиониста. Если сравнивать с образом фрейдовского аналитика, то он был бы скорее похож на дезиллюзиониста, который в конце концов заставляет проявиться объективную реальность. Воображаемое понимается в противовес реальному, как приспособление к реальному — это Я, нарциссическое Я из стадии зеркала, выстраивание иллюзии, которая создает равновесие между субъектом и миром, защищает субъект. Воображаемое структурируется вокруг символического по поводу реального — символическое, которое представлено как порядок языка или, шире, порядок культуры, для отдельного субъекта появляется с именем Отца. То, как описывает Лакан символическое, сближает его с фрейдовской инстанцией Сверх-Я, однако все первичные мифы и комплексы интерпретируются Лаканом символически. Например, через символическую кастрацию субъект приобщается к измерению Бытия-к-смерти. Лакан использует идеи Ж. Батая, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра для того, чтобы описать желание как связь всех трех компонентов психического. Лакан был исключен из Международной психоаналитической ассоциации и создал свое общество, влияние которого на практикующих психоаналитиков распространяется на Францию, Великобританию и США. Но гораздо более мощное влияние идеи Лакана оказали на всю философскую мысль второй половины ХХ в., затрагивая самые разные направления гуманитарного знания: литературоведение, психологию, методологию науки, историю, культурологию, политические науки. Литература1.Фрейд 3. Я и Оно: В 2 т. Тбилиси, 1991. 2.Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 1990. 4.Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992. 5.Юнг К. Г. Тэвистокские лекции. Киев, 1995. 6.Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. Ростов-на-Дону, 1998. 7.Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. 8.Лакан Ж. Семинары 1, 2. М., 1998, 1999. 9.Кляйн М. Развитие в психоанализе. М., 2001. 10.Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль. М., 1994. 11.Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру. М., 1985. Глава 13. ГУССЕРЛЬ Эдмунд Гуссерль родился в 1859 г. в Проснице (Моравия). В ходе его обучения — с 1876 г. в Лейпцигском университете, с 1878 г. в Берлине, с 1881 г. в Вене — его интересовали прежде всего математика, физика и астрономия. Среди его университетских наставников были известные математики Леопольд Кронекер и Карл Вейерштрасс. В 1882 г. Гуссерль защищает диссертацию на тему «Некоторые вопросы теории вариационного исчисления». После присуждения ученой степени он некоторое время был приват-ассистентом Вейерштрасса. К. Вейерштрасс — представитель критической математики, для которой характерно стремление к четким дефинициям понятий и логической строгости доказательств. Согласно Вейерштрассу, строгое изложение дифференциального и интегрального исчисления следовало начинать с разъяснения понятия числа. Эта идея легла в основу габилитационного сочинения Гуссерля «О понятии числа. Психологический анализ» (1887). В 1882 г. в Вене под влиянием своего друга Томаса Масарика Гуссерль основательно изучил Новый Завет, в результате чего в его мышлении произошли глубокие перемены: он сменил математику на философию, чтобы, по его признанию, сделанному через 40 лет, «посредством некой строгой философской науки найти путь к Богу и праведной жизни». В 1885—1886 гг. в Вене Гуссерль слушал философские лекции Франца Брентано. Его труд «Психология с эмпирической точки зрения» (1874) привлек Гуссерля искусным использованием метода сведения (редукции) всех философских понятий к их первоисточникам в созерцании. Брентано использовал этот метод, чтобы распутать и прояснить проблему сознания. В работе «Философия арифметики. Психологические и логические исследования» (1891) Гуссерль использовал этот метод для обоснования понятия числа в простых созерцаниях как психических актах. В 1900 и 1901 гг. выходят в свет 2 тома «Логических исследований». 1-й том «Логических исследований» вызвал большой резонанс. Для изучения и разработки идей, выраженных в этом труде, объединяются молодые философы. Начинается история феноменологического движения. Постепенно вокруг Гуссерля складывается настоящая философская школа. В 1901 г. Гуссерль получает профессуру в Геттингене. В геттингенские годы Гуссерль опубликовал свое второе главное сочинение — «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913), которое принесло ему мировую известность. После 1907 года вокруг Гуссерля складывается кружок энтузиастов — исследователей, вдохновленных «Логическими исследованиями», под громкимназванием «Философское Геттингенское общество» (Ганс Липпс, Александр Койре, Роман Ингарден, Гельмут Плесснер, Арнольд Цвейг и др.). Здесь сложилась философская школа, близкая по духу платоновской Академии: обучение философии велось не столько теоретически, сколько практически; учитель демонстрировал свой метод в действии, и «тренировал» учеников в его применении. Здесь, как и в Академии, философии не «обучали», ею «заражали» — как в принципе и в любой научной школе. Здесь создавалась особая напряженная интеллектуальная атмосфера, в которой обострялась мысль и прояснялось видение (недостатком было то, что, выйдя из этой атмосферы, люди часто теряли эту ясность). С 1916 г. вплоть до своей отставки в 1928 г. Гуссерль преподает во Фрайбурге. Здесь его сотрудником был Хайдеггер. Хайдеггер помог подготовить к публикации гуссерлевские лекции по феноменологии внутреннего сознания времени (1928), которые многолетняя сотрудница Гуссерля Эдит Штейн составила в единый текст из лекционных и исследовательских рукописей. После отставки (1928) Гуссерль продолжает искать формы для более ясного изложения своего феноменологического метода, для чего ему требовалось самому достичь его более глубокого понимания. За считанные месяцы им была написана «Формальная и трансцендентальная логика» (1929). Вскоре после этого Гуссерль читал доклады в парижской Сорбонне. Оба доклада вышли на французском языке в 1931 г., а на немецком — лишь в 1950 г. под названием «Картезианские размышления». Его последний труд, «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», также был опубликован на немецком языке только в 1954 г. Основные идеи этой книги были высказаны Гуссерлем в докладе «Философия в кризисе европейского человечества», прочитанном в 1935 г. на заседании Венского культурного союза, и в докладе «Кризис европейских наук и психология», прочитанном в том же 1935 г. в Пражском университете. По истечении 1935 года Гуссерль был лишен нацистскими властями права преподавания из-за своего еврейского происхождения и, надо добавить, из-за несовместимости феноменологии с нацистской идеологией «крови и почвы». Гуссерль подвергался преследованию как один из тех интеллектуалов, которые провозглашали значимость истинного знания для всех людей, а стало быть, и для «нелюдей», безразлично негров или евреев. Гуссерль являл собой, с точки зрения нацистов, тот «бесплодный дух без крови и расы», тех «искалеченных интеллектуалов», чья духовность есть «болезненное пышноцветие», не имеющее никакого отношения к своей «хилой телесности», полное ненависти к «подлинной, единой с почвой, духовности». Райхминистерство по науке, педагогике и народному образованию вынудило Гуссерля выйти из основанной Артуром Либертом в Белграде философской организации. В 1937 ему было отказано в разрешении участвовать в IX Международном конгрессе по философии в Париже. Лишь самые близкие друзья продолжали поддерживать отношения с Гуссерлем до его смерти в 1938 г. Философское наследие Гуссерля охватывает примерно 40 000 рукописных страниц (большая их часть — стенографические записи). То, что они сохранились, — заслуга бельгийского францисканского патера Германа Лео ван Бреда: вскоре после смерти Гуссерля, спасая рукописи от уничтожения национал-социалистами, он тайно вывез их из страны. Ван Бреда инициировал основание в университете Лувена (Бельгия) Архива Гуссерля. Собрание сочинений Гуссерля (Husserliana) продолжает издаваться до настоящего времени (в 2003 г. вышел XXXVI том), давая все новый материал для лучшего понимания феноменологического метода и замыслов Гуссерля по его применению. «Философия арифметики». В своей первой книге Гуссерль ставит задачу философского обоснования математики путем редукции — сведения всех математических операций к простым созерцаниям. Здесь можно проследить родство с методом Э. Маха «редукции понятий к созерцаниям», однако с тем принципиальным отличием, что Гуссерль сводит арифметические понятия к интеллектуальным созерцаниям, которые давно были отвергнуты в послегегелевской философии как метафизический предрассудок. Мы непосредственно видим, — считает Гуссерль, — чем два яблока «похожи» на два дома и чем они отличаются от трех яблок — следовательно, мы способны созерцать числа как таковые. Правда, это относится только к малым числам — понятия больших чисел связываются с переживаниями малых посредством операций счета, осуществляемых по законам экономии мышления. Предложив свой вариант обоснования математики, Гуссерль вступил в старый спор об основаниях математики между трансценденталистами и эмпириками, который начался в конце 1830-х гг. в Англии. Трансценденталисты защищали тот взгляд, что аксиомы геометрии не выводимы из опыта, но производны от трансцендентальных оснований всякого возможного знания. Эмпирики же пытались вывести из опыта принципы геометрии и математики в целом (при помощи метода индукции). Противники трансцендентализма, например, спрашивали: почему мы так уверены, что прямые линии, которые мы не можем представить пересекающимися дважды, и в действительности не могут так пересекаться? Трансценденталисты, ссылаясь на Канта, утверждали, что таково наше «пространственное созерцание», которое не выводится из опыта, но является его предпосылкой и обусловливает основные пространственные свойства всего, что постигается в опыте. Значение этого спора для философии было немаловажным, так как он был напрямую связан с проблемой трансцендентальных оснований нашего знания: математика была наукой, в которой было труднее всего подвергнуть сомнению «трансцендентальный» характер ее принципов, поэтому «трансценденталисты» прилагали все усилия, чтобы защитить эту науку от попыток приравнять ее к эмпирическому знанию. Этот спор продолжался, то угасая, то разгораясь вновь, до конца XIX столетия и имел очень важное значение для философского становления Э. Гуссерля. Хотя позиция «Философии арифметики» Гуссерля в этом споре была воспринята как попытка дать психологическое обоснование принципов математики, тем не менее в свой основе позиция Гуссерля совпадала с трансцендентализмом, вводя без лишнего шума интеллектуальное созерцание как «опытную базу» математических понятий. Теоретическая «борьба за трансцендентальное» имела и важный нравственный аспект. Он заключался в отстаивании ценностей традиционной, так называемой «общечеловеческой», морали перед лицом разрушительной критики позитивизма, волюнтаризма и левого радикализма. После Гегеля стало общим местом, что, точно так же, как нет внеисторической истины и, соответственно, беспредпосылочного познания, так нет и всеобщей этики, а есть разнообразные этики (во множественном числе), исторически, социально, природно обусловленные. С другой стороны, понятие «Бог» уже не могло, как прежде, быть основой единой системы нравственности. В этих условиях сторонникам общечеловеческой «вечной» морали не оставалось ничего, кромекак обратиться к трансцендентальным вневременным принципам познания и попытаться обосновать на них принципы морали. Кроме того, «трансцендентальный субъект» выступал в качестве единственного «вечного» (вневременного) начала в человеке: для интеллектуалов XIX в. христианское представление о душе уже не было приемлемо как сильно мифологизированное, но без вечного начала в человеке было бы бессмысленно говорить о вечных ценностях морали. «Логические исследования». Главный предмет 1-го тома «Логических исследований» — критика психологизма в логике. «Психологизм» — одна из позиций в развернувшемся в конце XIX в. споре о природе логических законов и отношении логики и психологии. Проблема эта восходит к Канту. Кант считал, что существует две логики: формальная — наука о формах и законах правильного мышления, которые получают реальное значение лишь в соединении с предметами мышления, и трансцендентальная — наука о всеобщих и необходимых формах мышления вообще, т. e. o категориях, имеющих вневременное значение. Трансцендентальная логика, по Канту, независима от всякого ее применения и потому не может быть проверена или опровергнута опытом. «Психологисты» (Джон Стюарт Милль, Зигварт, Вундт, Шуппе и др.) отрицали трансцендентальную логику, а формальную логику понимали как чисто техническое (прикладное) учение о мышлении. Их рассуждения были на вид безупречны: психические явления — предмет психологии; мышление — разновидность психических явлений; следовательно, мышление — предмет психологии. Поскольку же задача науки — изучение законов явлений, входящих в их предмет, то задачей психологии должно быть изучение законов мышления. Соответственно, законы логики по природе являются психологическими законами, а сама логика должна стать разделом психологии. Главные аргументы противников психологизма основывались на двух ключевых понятиях: 1) «чистое долженствование»; законы мышления относятся к «чистой мысли» и говорят о том, как нужно мыслить вообще, с точки зрения Истины, безотносительно к любой цели и интересу; психологисты, опираясь на опыт «научных революций», утверждали, что нет «вечной истины» и «чистой мысли». Любое долженствование гипотетично: если хочешь достичь такого-то результата, делай (думай) так-то; 2) «абсолютная очевидность»; законы логики, в отличие от законов психологии, постигаются с абсолютной очевидностью. Но сама эта очевидность — возражали психологисты — есть не что иное, как психологическое чувство уверенности (разве не было веками «очевидно», что Солнце вращается вокруг Земли, а тело, которое не толкают, останавливается?) Гуссерль, в своей философии арифметики сам выступавший с позиций, внешне близких психологизму, в «Логических исследованиях» вступает в спор на стороне трансценденталистов. Его аргументы, вкратце, следующие: 1) логика — единственная наука, которая задает законы сама себе; понятия и законы логики не предполагают понятий и законов психологии и не выводятся из них; «В логике... идеальные связи, составляющие ее теоретическое единство, подчиняются в качестве отдельных случаев законам, ею же устанавливаемым» (1: 300). 2) психология — не только наука о мышлении, но и сама есть мышление и, следовательно, должна подчиняться законам логики, которые должны предполагаться истинными, а не выводиться из опыта; 3) аргумент «арифмометр»: механизм арифмометра построен и действует согласно законам механики, но это не мешает ему также быть выражением законов арифметики. Сколько бы мы ни разбирали арифмометр, мы не найдем ни чисел, ни арифметических законов. Аналогичным образом соотносятся в человеке сфера психического и сфера чистой мысли: можно бесконечно исследовать психический «механизм» мышления и нигде не найти «чистой мысли» — что не мешает этому механизму в своем действии выражать вечные истины чистого мышления, «истины как таковой». Во втором томе «Логических исследований» Гуссерль закладывает основы феноменологического метода. Феноменология — это и есть исключительно метод, а не система; гносеология, а не онтология. Цель этого метода — «усмотрение сущности». «Феномен», в понимании Гуссерля, — не явление, за которым стоит еще некая «сущность» (вещь в себе). Нет никакой сущности «по ту сторону» феноменов. Феномен — это и есть сущность «как она сама себя являет». Сущность совпадает с чистым феноменом, т. е., феноменом, очищенным от всякого неосмысленного истолкования. Главное условие постижения чистых феноменов и, соответственно, главное требование феноменологического метода — беспредпосылочность. Это требование означает, что феноменология не должна вводить своих собственных предпосылок (гипотез, аксиом), поэтому исходным пунктом применения феноменологического метода может быть только «неочищенный» феномен «естественной установки». Продолжая критику опыта, начатую «вторым позитивизмом», Гуссерль призывает очистить опыт не только от метафизических привнесений, но вообще от всяких неосмысленных предпосылок («предрассудков» в самом широком смысле слова). Главная предпосылка, которая должна быть устранена, — некритическое полагание вещей вне сознания («вещей в себе»). Это полагание есть определяющее свойство «естественной установки» — того состояния сознания, в котором человек находится до начала критического осмысления своего опыта. Феноменология задумывалась Гуссерлем по образцу «строгой науки», которая только бесстрастно констатирует факты, но не толкует их. Именно это значение имел провозглашенный Гуссерлем лозунг «К самим вещам!» Но изначально и прежде всего любой факт есть факт сознания, не «вещь в себе», но смысл, полагаемый сознанием. Даже «реальность» вещей — это лишь один из смыслов, которые мы вкладываем в них, вещь сама по себе не имеет смысла (существования). Самой сущностью сознания является «вкладывание» смысла в интенциональных актах: «быть сознанием», значит — «давать смысл». Поэтому движение «к самим вещам» ведет не от понятий к ощущениям, но от производных и вторичных смыслов к смыслам изначальным, пред-данным. «Логические исследования» не были поняты так, как рассчитывал автор. Заявленную здесь дескриптивную феноменологию восприняли как подготовительную ступень эмпирической психологии. Это неудивительно, учитывая, что сам Гуссерль далеко не сразу осознал все значение феноменологической программы. В «Идеях к чистой феноменологии» он пишет: «...чистая феноменология... та самая феноменология, первый прорыв к которой произошел в «Логических исследованиях» и смысл которой все глубже и богаче раскрывался для меня в работах протекшего с тех пор десятилетия, — это не психология» (2: 20). В «Логических исследованиях» феноменологический метод является в общем дескриптивным: очищение феноменов осуществляется посредствомкритического самонаблюдения. В зрелой феноменологии, как она предстает в «Идеях к чистой феноменологии», для той же цели Гуссерль разрабатывает новый метод — метод феноменологической редукции и интенционального анализа. Зрелая феноменология. Поставленная в «Логических исследованиях» задача выявления «изначальных смыслов» получает дальнейшее развитие в «Идеях к чистой феноменологии» и других работах зрелого периода. Теперь смысловое содержание сознания подвергается последовательной критике, т. е. очищению: изначальные смыслы очищаются от производных и ставится новая задача — выявить источник всех смыслов и возвести к нему все содержание сознания (редукция), чтобы затем проследить механизм полагания всех смыслов из этого источника (конституирование). Осуществление этой программы позволило бы обосновать содержание сознания и дать человеку твердую точку опоры в самом себе перед лицом теряющего смысл (и даже «противосмысленного») внешнего мира. Ступени феноменологической редукции. Метод редукции должен, по замыслу Гуссерля, иметь несколько ступеней. Если привести к единому знаменателю различные варианты изложения метода редукции, имеющиеся в произведениях философа, можно говорить о трех ступенях. 1.Эпохе. У последователей скептика Пиррона термин «эпохе» означал «воздержание от суждения», здесь — воздержание от приписывания бытия внешним объектам. Бытие должно быть «выведено за скобки». «Вывести бытие за скобки» — значит, не отрицая, просто отвлечься от него и рассуждать так, как если бы мир был только содержанием моего сознания. Это позволит феноменологу, по замыслу Гуссерля, освободиться от всякого практического интереса и занять позицию незаинтересованного наблюдателя. К чему мы приходим в результате эпохе? В содержании нашего сознания ничего не меняется, меняется лишь наше отношение к этому содержанию. Теоретическая установка не связана напрямую с практической: астроном исходит из теоретической установки лишь в своих научных занятиях, но, идя по земле, он так же, как все люди, должен полагаться на то, что земля под его ногами покоится. Весь наш опыт предстает теперь как содержание сознания, т. е., все предметы нашего опыта рассматриваются не как «вещи в себе», а как смыслы для субъекта; не существует «смыслов в себе», которые не были бы смыслами для какого-нибудь сознания. «...Никак нельзя позволять, чтобы нас вводили в заблуждение рассуждения о том, что вещь трансцендентна сознанию или же что она есть «бытие в себе»» (2: 4 — 5). Тем самым феноменологическое исследование переходит от вопросов бытия — к смыслу. «Реальность» вещей естественной установки становится далекой и не затрагивает сознание феноменолога. «Между сознанием и реальностью поистине зияет пропасть смысла» (2:11). 2.Трансцендентальная редукция. Здесь мы всю жизнь сознания рассматриваем как целостную, когда каждый интенциональный акт вступает в синтез со всем предыдущим содержанием сознания («универсальный синтез»). При таком рассмотрении оказывается возможным «взять в скобки» не только бытие внешнего мира, но и меня самого как эмпирического субъекта. Сознание теперь должно рассматриваться как абсолютное сознание — замкнутая самодовлеющая сфера, лишенная отношения к чему-либо «вне сознания»: «Сознание, если рассматривать его в чистоте, должно признаватьсязамкнутой в себе взаимосвязью бытия, а именно взаимосвязью абсолютного бытия, такой, в которую ничто не может проникнуть и изнутри которой ничто не может выскользнуть» (2: 11). Когда сознание исследователя освободилось от скованности практическими интересами и навязанными ими предрассудками, тогда открывается широкое поле для исследования — поле «трансцендентального опыта», рефлексии, в которой субъект имеет дело исключительно с фактами сознания. Субъектом трансцендентального опыта может быть только трансцендентальный субъект — он открывается в итоге всей феноменологической работы, как общий смысловой центр всей жизни сознания. По Гуссерлю, такой центр необходимо должен мыслиться как «Я-полюс» «я-актов». Интенциональность, характерное свойство переживаний «быть сознанием о чем-то», по Гуссерлю, есть сущность трансцендентальной субъективности. Здесь сознание выступает уже не просто как интенциональное, т. е., направленное на предмет, соотносящее себя с предметом, но как развертывающееся в интенциональных актах, в которых оно активно полагает смысл (т. е. содержание) своего предмета. Интенциональный акт, по Гуссерлю, — всеобщая форма жизни сознания. Далее феноменология развертывается как интенциональный анализ — анализ принципов и структуры смыслополагающей деятельности сознания. Главные понятия интенционального анализа — ноэза, ноэма, горизонт. Ноэза — реальный способ данности предмета в акте восприятия, обозначаемый Гуссерлем также термином reell[46]. Reell — это «факты восприятия», в которых субъект и объект, материя и форма мысли еще не выделены рефлексией и сливаются в «гераклитовском потоке» психической жизни сознания. Ноэтический слой жизни сознания в принципе доступен прямому наблюдению, и его законы, или, скорее эмпирические закономерности, должны изучаться эмпирической психологией. Феноменология (или «феноменологическая психология») берет «реальное» лишь как материал для интенционального анализа, выявляющего в нем идеальные предметные смыслы (ноэмы). Ноэма — интенциональный коррелят актов сознания, их идеальный «предметный полюс», cogitatum (помысленное). Любой акт сознания направлен на «что-то», но это что-то впервые и получает значение «предмета» благодаря акту сознания — следовательно, эта «предметность» не реальна, а идеальна. Например, мы смотрим на дом с какой-то одной стороны. Согласно Аристотелю, можно было бы сказать, что все восприятия дома (с разных сторон, изнутри и т. д.) связываются воедино объективной формой (сущностью) дома, схватываемой в его понятии. Но для Гуссерля сущность «по ту сторону» явления уже немыслима, так как она была бы «вещью в себе». Отсюда вопрос: что же в таком случае связывает воедино все акты восприятия дома (D1, D2, Dn), в целостный образ «дома»? Сказать «целостность дома самого по себе» уже нельзя, потому что «дом сам по себе» мыслим лишь для «естественной установки», но не для феноменологической. Сказать «практический интерес» — ближе к истине, но далеко не всегда можно объяснить целостность наших созерцаний практическим интересом. Так, глядя на звездное небо, чело-
век естественно делит звезды на группы созвездий, хотя его не связывает с ними никакой практический интерес. Кант называл эту способность произвольного связывания материала ощущений «продуктивной силой воображения», но, по Гуссерлю, работа воображения необходимо предполагает некий идеальный (только мыслимый, а не воспринимаемый) центр. Такой центр Гуссерль и называет ноэмой. В психической жизни два восприятия одного и того же дома, рассмотренные в их психофизической данности, не имеют ничего тождественного: они отличаются либо в пространстве — углом зрения, либо во времени — состоянием сознания. «Два явления, которые благодаря синтезу даются мне как явления одного и того же, реально (reell) разделены, и как разделенные реально (reell), не имеют общих данных; они имеют (лишь) в высшей степени схожие и подобные моменты». Все, что объединяет эти акты сознания и тем самым придает целостность сознанию, — это идеальный (мнимый, мыслимый) центр, к которому сознание всякий раз ставит себя в отношение. Это ядро ноэмы — энтелехия, которая обеспечивает фундаментальное единство трансцендентального Эго как смысловое, целеполагающее начало. Следовательно, сознание только в полагании предмета обретает целостность, т. е., по природе телеологично. Горизонт. Сознание в своем конституировании предмета принципиально горизонтно: предмет сознания выступает всегда как некий актуализированный горизонт, но всегда на фоне потенциального горизонта. При наличии уже одного акта сознания D1 (см. рис.) целостность сознания и его предмета заданы потенциально (гипотетически) как горизонт С возможных (представимых) актов восприятия одного и того же предмета (ноэмы) одним и тем же сознанием. Если горизонт, например, зрительного восприятия — это совокупность точек, доступных созерцанию из данного центра, то феноменологический горизонт — это совокупность точек зрения на данный предмет, возможных для данного сознания. Причем это множество не только точек наблюдения в пространстве, но и во времени, и в других измерениях «интенциональной жизни» сознания. Возможности, круг которых очерчивается горизонтом, — это и есть действительная сущность. «Потенциальность жизни так же важна, как и ее актуальность, и эта потенциальность не есть некая пустая возможность». Или, другими словами, «ты есть то, чем ты можешь стать». Пожалуй, лучше всего выразить эту мысль Гуссерля в терминах Николая Кузанского: возможность есть развернутая действительность, а действительность — свернутая, концентрированная возможность. Для науки о сознании и в целом для философии открытие горизонтности сознания имеет огромное значение, до сих пор не раскрытое полностью. Многие проблемы — бесконечности и конечности мира, бессмертия души, свободы — могут получить в свете этого открытия новое решение. Конституирование. В актуализации потенциальных возможностей, развертывании новых горизонтов заключается деятельный характер интенциональности. Сознание на этой ступени редукции рассматривается уже не как безразличная форма эмпирического содержания, но как активно полагающее (конституирующее, конструирующее) свой предмет. То, что конституируется, существует до этого акта как неопределенная возможность, входящая в горизонт сознания. Конституирование наполняет эту возможность определенным смыслом — тем самым творит предмет как предмет восприятия (при этом развертываются новые горизонты возможных восприятий). На этой ступени редукции главная проблема — проблема интерсубъективности и отношение трансцендентального субъекта к своему «эмпирическому я». Последовательный ход рассуждений приводил Гуссерля к выводу, что трансцендентальная феноменология — это солипсизм (конечно, чисто теоретический, а не практический): так как я открываю трансцендентальную субъективность всегда в самом себе, я могу (с научной строгостью) постигать трансцендентальное Я лишь как свое собственное. «Всю свою собственную жизнь сознания я могу прямо и непосредственно испытывать в ее самости (als es selbst), чужую же — чужое ощущение, восприятие, мышление, чувствование, видение — нет». Лишь по аналогии с собой я могу заключить, что другой — такое же трансцендентальное Эго, как и я сам. Гуссерль сознавал, что такое состояние проблемы интерсубъективности неудовлетворительно, и надеялся, что более развитая феноменология сможет дать ее исчерпывающее разрешение. Но оказалось, что интенциональным анализом «вчувствования» эта проблема не разрешима. Стремление уйти от крайнего солипсизма, пусть и только трансцендентального, было одним из мотивов, приведших Гуссерля к новой интерпретации феноменологии в своих поздних работах. То, что выше было названо «эпохе» и «трансцендентальная редукция», Гуссерль иногда[47] обозначает общим наименованием «феноменологическая редукция» и дополняет ее эйдетической редукцией, составляющей в таком случае третью ступень феноменологического метода редукции. 3. Эйдетическая редукция. До сих пор феноменология оставалась в пределах опыта, хотя он и рассматривался иначе, чем обычно, — как трансцендентальный опыт. Но это еще не наука. Наука устанавливает всеобщие и необходимые принципы, на которых основывается опыт, — законы, или инварианты опыта. Феноменология как универсальная наука о принципах всякого опыта начинается с эйдетической редукции. Эйдетическая редукция — это сосредоточение внимания уже не на самом чистом сознании, а на его априорных структурах («феноменологическое априори»). «Метод достижения чистого apriori есть совершенно трезвый, всем известный и во всех науках применяющийся метод, ... состоящий в том, чтобы в аподиктическом усмотрении достичь чистых всеобщностей, без всякого полагания при этом фактов, ... всеобщностей, аподиктически предписывающих этим последним норму мыслимости в качестве возможных фактов. Раз проявившись, такие чистые всеобщности, хотя они и возникли вне строго логического метода, суть чистые самопонятности, в отношении которых возникновение явного абсурда всегда доказывает невозможность мыслить иначе. Таковым в сфере природы является понимание того, что любая интуитивно представимая в качестве чистой возможности или, как мы говорим, мыслимая вещь имеет основные пространственно-временные каузальные свойства как res extensa[48], пространственную и временную форму, пространственно-временное положение и т. д.» (6: 76). Для выявления «инвариантов трансцендентального опыта» Гуссерль предлагает метод эйдетической вариации. «Эйдетическая вариация отыскивает сущностные структуры, абстрагируясь от случайностей и индивидуальных особенностей фактически протекающих актов мышления. Поскольку выявляемые сущностные закономерности охватывают всеобщие структуры не только данных актов мышления, но и других допустимых мыслительных актов, относящихся к тому же предмету, то они могут претендовать на безусловную всеобщность. Любой частный случай представляет собой экземпляр этой всеобщности» (12: 44). Метод эйдетической редукции разработан у Гуссерля гораздо меньше, чем дескриптивно-феноменологический. На этом уровне редукции и, соответственно, применения феноменологического метода, главная проблема — соотношение между «науками о фактах» и «эйдетическими науками» (науками об идеальных сущностях). Теоретически, по Гуссерлю, каждая наука о фактах — физика, химия, биология, социология — должна необходимо опираться на соответствующую ей эйдетическую науку. Идеальный пример он видел в отношении между физикой, которая, по его мнению, все предметы сводит к пространственным формам, и геометрией, «чистым эйдетическим учением о пространстве». Прорыв в физике Нового времени был вызван, по его словам, тем, что физика стала широко применять геометрический метод. По замыслу Гуссерля, вся действительность должна была быть поделена на «регионы» (бытие, пространство, время, жизнь, общество), каждым из которых должна заниматься своя эйдетическая наука. Но попытки создания новых «наук о сущностях» на основе этого метода нельзя назвать полностью успешными. Феноменология так и осталась общим методом «эйдетических наук». Поздняя феноменология. После Первой мировой войны в Германии, как и во всей Европе, резко изменилось отношение к науке. Если до войны позитивные науки, столь революционно изменившие условия жизни человечества, определяли мировоззрение образованных слоев общества, то после войны наука потеряла это доверие. Во-первых, потому, что технические достижения, вызывавшие такое воодушевление в XIX в., обернулись невиданной ранее смертоносной силой (так джинн, неосторожно выпущенный из бутылки, обращается против своего освободителя). Во-вторых, в условиях крушения прежнего уклада жизни и прежних ценностей наука самоустранилась и не смогла указать человеку смысл жизни и точку опоры в быстро меняющемся мире. «Переворот в публичной оценке [науки] стал в особенности неизбежен после войны и породил, как мы знаем, прямо-таки враждебную настроенность среди молодого поколения. Эта наука, говорят нам, ничем не может нам помочь в наших жизненных нуждах. Она в принципе исключает как раз те вопросы, которые являются животрепещущими для человека: вопросы о смысле и бессмысленности всего человеческого существования» (8: 20). В 20-е — 30-е гг. в Германии на фоне роста национализма и укрепления фашизма большинство мыслящих людей ощущало себя «заброшенными» и опустошенными, жизнь — обессмысленной. Этот кризис привел к тому, что очень многие обратились в поисках смысла бытия к «темным водам иррационального» — к мистике религиозной, философской, поэтической. В том числе и Хайдеггер, на которого Гуссерль возлагал большие надежды. Во всем этом Гуссерль видел симптомы кризисного процесса разложения европейской рациональности. «Истинные, единственно значимые битвы нашего времени — это битвы между уже сломленным человечеством и человечеством, которое еще опирается на твердую почву и ведет борьбу за нее илиза обретение новой» (8: 31). «Распавшееся человечество» — это человечество, потерявшее веру в единую для всех Истину, соответственно, в «чистые» идеалы Добра, Красоты, справедливости, погрузившееся в «скептицизм». Больнее всего «скептицизм» проявляется в осмыслении истории. «...История может научить только одному — тому, что все формы духовного мира, все когда-либо составлявшие опору человека жизненные связи, идеалы и нормы возникают и вновь исчезают, подобно набегающим волнам... что разум вновь и вновь будет оборачиваться бессмыслицей, а благодеяние — мукой? Можем ли мы смириться с этим, можем ли мы жить в этом мире, где историческое свершение представляет собой не что иное, как непрерывное чередование напрасных порывов и горьких разочарований?» (8:21). Кризис, «болезнь» европейского человечества — это кризис европейского духа, той фундаментальной познавательной установки, составляющей основу духовного родства всех народов, которые независимо от географического положения можно отнести к «Европе». В свои преклонные лета Гуссерлю приходится ставить масштабную задачу — наметить основания и главные черты научной философии истории, разумеется, на основе феноменологического метода. Задача Гуссерля здесь двоякая: во-первых, дать четкое определение «духа Европы» как типа рациональности, или определенной познавательной установки; эта установка, убежден Гуссерль, имеет вневременное, непреходящее значение, и должна быть сохранена во всех перипетиях духовной и материальной жизни Европы. Во-вторых, нужно найти истоки «болезни» европейской рациональности — тот момент в истории, когда изначально чистая установка была искажена, что и привело в наши «последние времена» к столь кризисному состоянию. Определяющей чертой духовного своеобразия Европы Гуссерль считает стремление строить жизнь согласно бесконечным задачам (идеям разума). «Духовный telos[49] европейского человечества, в котором заключен особенный telos каждой нации и каждого отдельного человека, лежит в бесконечности, это бесконечная идея, к которой в сокровенности, так сказать, устремлено все духовное становление» (7: 104). Это чувство и это стремление реализуется в теоретической («созерцательной», от theoria —- «созерцание») установке, впервые возникшей в древнегреческой философии и науке. «Наука... есть не что иное, как идея бесконечности задач, постоянно исчерпывающих конечное и сохраняющих его непреходящую значимость». Именно наука и «научная философия», Philosophia Perennis, единое знание об универсуме, составляют основу всего своеобразия, присущего европейской рациональности. На Востоке, если и ставились бесконечные задачи (освобождение, слияние с Абсолютом), то все же никогда идея не отделялась полностью от материи, теоретическая установка — от практической: всегда познание и деятельность были двумя сторонами одного и того же процесса совершенствования. Итак, своеобразие европейской рациональности Гуссерль видит в возникновении чистой теоретической установки. Общее обозначение неевропейских установок как «естественных» наводит на мысль, что именно феноменологическая установка и есть то, что в наиболее чистом виде являет европейскую рациональность. Где же лежат истоки кризиса? «Кризис Европы», по мнению Гуссерля, есть результат отклонения от указанного образа рациональности. Это отклонение Гуссерль определяет как «натурализм» и «объективизм» и вытекающий из них «техницизм» науки Нового времени. Начало кризиса Гуссерль относит к научной деятельности Галилея, который, по его словам, осуществил «подмену единственно действительного, действительно данного в восприятии, познанного и познаваемого в опыте мира — нашего повседневного жизненного мира — миром идеальных сущностей, который обосновывается математически. Эта подмена была в дальнейшем унаследована потомками, физиками всех последующих столетий» (8: 74). Удивительные успехи математического естествознания Нового времени привели к тому, что ученые, а вслед за ними и большинство образованных европейцев, забыли, что математическая модель — это только модель, и она не может заменить живую природу, как мы ее воспринимаем в донаучном опыте. Природная реальность была заменена виртуальной реальностью математических моделей, но неисчислимый, нематематизируемый остаток действительности мстит человеку — войнами, болезнями, депрессией, опустошением. Неразрывно связано с этой подменой представление природы только как объекта для научного познания и технического преобразования ( «объективизм»). Во-первых, забывается, что природа существует и до научного познания, как «жизненный мир», в котором живут, формируются и работают ученые, и во-вторых, сама субъективность ученого при анализе научного познания вовсе на принимается в расчет. Рецепт выхода из кризиса, предлагаемый Гуссерлем, кажется противоречивым: с одной стороны, «лишь когда дух из наивной обращенности вовне вернется к себе самому и останется с самим собой, он может удовлетвориться», — это кажется апофеозом субъективизма; здесь Гуссерль отстаивает «автономию» чистого сознания от всего природного и возможность «беспредпосылочного» познания из себя самого; с другой стороны, введение «жизненного мира» указывает на принципиальную предпосылочность всякого познания и включенность чистого сознания в неразрывную связь природных явлений. Противоречие, однако, лишь кажущееся: во-первых, беспредпосылочность означает лишь требование не вводить собственных предпосылок познания в виде аксиом или гипотез, но это значит — выявлять действительные предпосылки научного познания. «Фондом предпосылок» Гуссерль называет мир конечного, донаучный «жизненный мир» ученого. Своей критикой объективизма и введением понятия жизненного мира Гуссерль стремится спасти главное положительное зерно европейской рациональности — чувство бесконечности и стремление к решению бесконечных задач. Гуссерля неоднократно упрекали в непоследовательности, в том числе и его сторонники. Так, выдвинутый им в «Логических исследованиях» лозунг «Назад, к вещам!» был воспринят как призыв от абстрактных конструкций философии к вещам «естественного опыта» в их конкретности. Поэтому, когда в «Идеях...» Гуссерль выступил с высоко абстрактным учением о предметном синтезе, когда «вещи» растворялись как идеальные аспекты актов мышления, это многим показалось непоследовательным. С другой стороны, в «Кризисе европейских наук» Гуссерль призывает опереться на донаучное восприятие мира, в работах периода «зрелой феноменологии» подвергнутое им критике как «естественная установка», от которой мы должны оттолкнуться, чтобы прийти к феноменологической установке. Элемент непоследовательности сложно отрицать, но он касается скорее интерпретации Гуссерлем собственной точки зрения. Говоря о феноменологии Гуссерля, нужно различать основной ход его мысли, который для Гуссерля был, в соответствии с принципом его феноменологического метода, формой «трансцендентального опыта», постоянно оттачиваемого искусства «усмотрения сущности», и, с другой стороны, выводы и толкования, которые Гуссерль давал сам или на которые наталкивал своих последователей. Основной ход мысли Гуссерля вполне последователен на протяжении всего его творчества, от «Философии арифметики» до «Кризиса европейского человечества». Так, лозунг «К самим вещам!» с самого начала означал не призыв к «вещам» в их чувственной конкретности, но требование очистить созерцание от всякого некритического полагания, причем созерцание не чувственное, но интеллектуальное. Гуссерль умышленно не подчеркивает это различие, словно молчаливо отождествляя чувственное и интеллектуальное созерцание, точнее, даже сводя чувственное созерцание к интеллектуальному. Именно молчаливость этого отождествления вызвала непонимание «Логических исследований» и упреки в психологизме. Возврат к «естественной установке» в последних работах Гуссерля также не противоречит основному ходу его мысли: мир «естественной установки», хоть и подвергался в более ранних работах критике, но не отрицанию, и при этом полагался в качестве исходной точки феноменологического исследования. Но если в зрелой феноменологии эта установка служила для того, чтобы оттолкнуться от нее, то теперь — чтобы на нее опереться. Общая руководящая идея в феноменологии Гуссерля на всех ее этапах — найти путь к единой истинной философии как строгой и универсальной науке — Philosophia Perennis, науке живой и человечной, отвечающей на запросы не только разума, но и чувства, и совести. Литература1.Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1 // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. 2.Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1994. 3.Гуссерль Э. Феноменология. Статья в Британской энциклопедии // Логос. М., 1991. № 1. 4.Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. 5.Гуссерль Э. Парижские доклады // Логос. М., 1991. № 2. 6.Гуссерль Э. Амстердамские доклады // Логос. М., 1992. № 3. 7.Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. М., 1986. № 3. 8.Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004. 9.Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. М, 1992. № 7. 10.Молчанов В. И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. М., 1988. 11.Молчанов В. И. Парадигмы сознания и структуры опыта. // Логос. М., 1992. № 3. 12.Прехтль Петер. Введение в феноменологию Гуссерля. Томск, 1999. 13.Husserliana. Edmund Husserl, Gesammelte Werke. Bd. I-XXXVI. Глава 14. ЯСПЕРС Карл Ясперс родился в 1883 г. В 1901 г., окончив классическую гимназию, поступил в Гейдельбергский университет на юридический факультет, но через полтора года перевелся на медицинский. Интерес к медицине был обусловлен, помимо прочих мотивов, тяжелой врожденной болезнью бронхов, вызывавшей приступы сердечной недостаточности. Такая болезнь, как правило, убивает не позже 30 лет, но сознательное отношение к этой «пограничной ситуации» позволило Ясперсу прожить полноценную жизнь и в некотором смысле «победить смерть». В 1908 г. Ясперс заканчивает университет, получив профессию врача-психиатра, в 1909 г. становится доктором медицины и поступает на работу в психиатрическую и неврологическую клинику при Гейдельбергском университете. В 1910 г. вступает в брак с Гертрудой Майер, ставшей его подругой и сподвижницей на всю жизнь. Она серьезно увлекалась философией, как и ее брат, Эрнст Майер, близкий друг Ясперса. Во многом под их влиянием Ясперс от медицины как естественно-научной дисциплины переходит вначале к психологии, а затем и к философии. Этапы этого пути отмечены его крупными произведениями: 1913 — «Общая психопатология»; 1919 — «Психология мировоззрений». С этого времени начинается его дружба с Хайдеггером. В «Психологии мировоззрений» Ясперс заявляет о себе уже как самостоятельный философ и в 1922 г. становится профессором философии в Гейдельберге. В 1931 г. выходит работа Ясперса «Духовная ситуация времени», в которой он проводит глубокий анализ кризисной духовной ситуации Германии и тех тенденций, которые привели к возникновению и усилению фашизма, а в 1932 г. — трехтомное сочинение «Философия», где философ попытался структурировать идеи и размышления, составлявшие содержание его экзистенциального философствования. С приходом к власти нацизма положение Ясперса становится очень опасным из-за еврейской национальности его жены. В 1937 г. его отстраняют от преподавания, в 1943 г. ему запрещено публиковаться в Германии (фактически такой возможности у него не было уже с 1938 г.). Лишь после войны Ясперс вновь выходит на сцену и становится одним из духовных лидеров Германии, помогая ей оправиться от нацистского дурмана и вернуться к гуманистическим традициям — на новом, экзистенциальном уровне. Будучи по образованию медиком-психиатром, Ясперс входил в философию в кризисное во всех отношениях время как хороший врач: формулировал диагноз, искал средства терапии — не только в области философских идей, но и в политической и социальной сфере. Многие критиковали его за «политическую ангажированность», якобы недостойную философа. В 1945 г. Ясперс стал одним из основателей журнала «Преображение» (die Wandlung) как трибуны для духовного и морального обновления Германии. Выходят его работы «Об истине» (1947), «Философская вера» (1948), «Истоки истории и ее цель» (1949), «Разум и противоразум в нашу эпоху» (1950). Умер Ясперс в 1969 г. В начале философского становления Ясперсу недоставало «включенности» в философскую традицию. Еще в 1931 г. историко-философские суждения Ясперса довольно общи и поверхностны. Глубокое освоение истории философии Ясперс начал в последующие годы, будучи уже сформировавшимся философом, признанным в качестве одного из основателей экзистенциализма. В 1936—1937 гг. выходят его первые историко-философские работы «Ницше. Подходы к пониманию его философствования» и «Декарт и философия». В конце 40-х — начале 50-х гг. Ясперс уделяет много внимания философскому осмыслению прошлого философии: к 1950— 1951 гг. относятся его записи, изданные в 1982 г. под названием «Всемирная история философии. Введение». В 1957 г. выходит первый том его масштабного труда «Великие философы». Понять личности великих философов, их «экзистенциальную ситуацию» — одно из главных направлений историко-философского метода Ясперса. Некоторые мотивы экзистенциального типа философствования Ясперс находит у Августина, у позднего Шеллинга и других философов, в широком смысле такое мышление может быть свойственно далеко не только профессиональным философам, но и писателям, художникам, даже детям. Но только у Кьеркегора и Ницше, по Ясперсу, этот тип мышления становится господствующим. Это «великие пробудители», так как они первыми почувствовали, что такое стоять перед Ничто, пустотой бессмысленности, после того, как мир был «обезбожен». Впервые испытанный ими кризис смысла в следующем, двадцатом, веке стал остро ощущаться в Европе, особенно в промежутке между двумя мировыми войнами. Этот кризис и вызвал к жизни философию экзистенциализма. Условиями и причинами этого кризиса, по Ясперсу, были: 1) «обезбожение» мира; божественная любовь и посмертная судьба души уже не могли наполнять смыслом краткое земное существование человека на земле; была утрачена вера как непосредственная связь экзистенции с трансценденцией; 2) ускорение жизни: события нагромождаются с такой скоростью, что осмысление не успевает за ними и, наконец, перестает стремиться угнаться за смыслом целого; картина осмысленного целого распадается на множество фрагментов, каждый из которых обладает лишь проблематичным смыслом; 3)разрыв связи времен: оторванный от корней в семейной, родовой, народной традиции, человек живет лишь сегодняшним днем — «все, что человек делает, может быть сделано быстро»; он не выражает собой оживление памяти прошлого и величие будущих задач. В условиях обессмысления мира и человеческой жизни экзистенциальная философия имеет единственной целью — наполнить жизнь человека новым смыслом. Метод, применяемый для этого Ясперсом, — «прояснение экзистенции». Это не просто более осознанное отражение жизненной ситуации: осознание ситуации уже само по себе есть усилие, направленное на овладение ситуацией, на освобождение человеческой экзистенции. Хотя мышление по своей природе, признает Ясперс, систематично, экзистенциальное философствование не может принять форму завершенной системы, не утратив самого существенного — жизни. Это философствование противится всякой абсолютизации, избегает формул и даже фиксированныхопределений. Повторяя Кузанца, Ясперс заявляет, что его цель — «посредством наибольшего знания достигнуть подлинного незнания» (6, 48). По модальности это философствование — не констатация и не вопрошание, а призыв, призыв к осознанному бытию самим собой. Модусы экзистенции. Классифицируя типы философского мышления, Ясперс выделяет четыре возможных способа представления человеком своего бытия. Это одновременно и типы философствования, и модусы экзистенции, основные способы бытия человека в мире. 1. Наличное бытие. «Направленное на мир» мышление постигает все как совокупность фактов, которые можно констатировать и проверить на опыте. Для такого мышления факты обладают непосредственной реальностью как во внешнем объективном, так и во внутреннем субъективном мире. С этой точки зрения человек мыслится как «наличное бытие» — прежде всего, как живое тело, включенное в поток биологических взаимосвязей, а также как обладающий сознанием и эмоциями — но лишь постольку, поскольку их проявления и следствия можно объективно зафиксировать. Это описание Ясперса имеет в виду прежде всего позитивизм и позитивистские по духу естественные науки, включая психологию и медицину. Хотя этот тип мышления Ясперсу наиболее чужд, экзистенциальная философия, в его понимании, должна прояснять и этот способ представления мира и человека, и соответствующий им модус экзистенции. 2. Сознание вообще. Этот тип мышления наиболее ярко выражен в неокантианстве: весь мир предстает здесь как предмет для познающего субъекта, постигаемый общезначимо в рациональных категориях. Человек как субъект такого познания есть некое «сознание вообще», в котором все индивидуальные отличия сливаются в отвлеченном понятии «субъекта». В качестве субъектов все люди находятся в одинаковом отношении к законам — и к законам логики, и к законам природы, и к правовым нормам. Научное и правовое сознание имеют свой общий корень в этом модусе экзистенции. 3. Дух. Если в предыдущем модусе доминировал рассудок, то здесь на первое место выходит разум. Мир постигается здесь, в духе Гегеля, как «объективная идея», идущая навстречу «субъективной идее». Идея же, по Канту, есть недостижимый для рассудка образ целостности, поэтому в качестве разумного духа человек сознает себя и существует как момент в жизни целого — народа, нации, человечества. Единство в духе никогда не может быть вполне реализовано в тот или иной момент времени — это вечно становящееся единство разнородного, а пространство разума есть пространство духовной борьбы, в которой человек, обретающий сам себя, отстаивает свое право быть собой. Но чем больше человек становится самим собой, тем больше борьба разрешается в диалектическое единство разумов и воль. 4. Экзистенция — человек, постигаемый в своем «самобытии» — Selbstsein, «бытие самим собой». Это бытие «абсолютно исторично», т. е., совершенно неповторимо, не общезначимо, но при этом безусловно. На уровне экзистенции человеку противостоит только трансценденция — в сущности, это философский термин для обозначения Бога. Экзистенция и усредненное существование. Как и Хайдеггер, Ясперс противопоставляет подлинный и неподлинный способы бытия человека в мире и второй из них связывает прежде всего с массовым, усредненным способом существования. Ясперс признает, что в современных условиях совершенно необходимым условием жизни человечества на земле является массовое техническое производство и соответствующая организация жизни. Но аппарат массового производства по мере своего развития все последовательнее уничтожает экзистенцию и условия, в которых она возможна. Еще больше, чем стихийные силы природы, экзистенция представляет для аппарата смертельную угрозу, разрушая навязываемый им усредненный образ существования. Поэтому аппарат стремится, если это возможно, полностью уничтожить экзистенцию. Человек должен вступить в борьбу за свою экзистенцию, не позволяя аппарату подчинить себе сферы мышления, семьи, исторической памяти. Природа и история. Ясперс различает в жизни человека природное и историческое. К «природному» относится не только биологический аспект жизни, но также жизнь «культурных организмов», которые, согласно популярной в то время теории Шпенглера, живут, растут и умирают, подобно биологическим объектам. Природное бытие развертывается во времени, а преемственность форм жизни осуществляется как наследование. Историческое измерение в бытии человека — это смысловое измерение. История отличается от всех природных процессов во времени так же, как смысл от знака. Преемственность в истории осуществляется как традиция. «В начале истории обнаруживается некий как бы накопленный в доисторическую эпоху капитал человеческого бытия, являющий собой не наследуемую биологически, а историческую субстанцию, которая может быть увеличена или растрачена» (6, 245). Этот «капитал смысла» передается как квинтэссенция жизни и мысли поколений — усваивая его через свои «корни», человек только и становится человеком. Человек, оторванный от корней, «атомизированный», «распыленный», теряет доступ к этому капиталу, но без него собственно человеческое в его жизни ставится под вопрос. Историческое измерение жизни человека, или жизнь смысла, имеют своим «истоком» ситуацию. Ситуация — так сказать, «единица смысла»[50]. Ситуация всегда индивидуальна и всегда целостна, ее смысловое содержание определяется ее границами. Границы ситуации — это границы открытых в ней возможностей. Пограничные ситуации имеют, по Ясперсу, ключевое значение для экзистенции. Границы пограничной ситуации совпадают с границами экзистенции — это значит, что сознание не может встать над такой ситуацией в позицию отстраненного наблюдателя, так как «за границами этой ситуации мы ничего не видим» (13: 469). Пограничные ситуации окончательны и не подлежат изменению человеком. «Они подобны стене, на которую мы наталкиваемся и о которую разбиваемся. Не в наших силах изменить их — лишь ясно осознать» (13: 469). «Поэтому человек, попадая в пограничную ситуацию, не может реагировать на нее согласно какому-либо плану или правилу, вместо этого он, если он входит в ситуацию сознательно, становится самим собой в возможной экзистенции. Переживать пограничную ситуацию и экзистировать — одно и то же» (13: 469). В такой ситуации «во мне прорывается бытие». «Несмотря на то, что в пограничной ситуации вопрос о бытии совершенно чужд человеку, оно может стать ему доступно посредством скачка» (13: 469). Граница экзистенции как жизни Я — это смерть[51], поэтому общая форма всех пограничных ситуаций — встреча со смертью, переживание смерти. В широком смысле вся жизнь — пограничная ситуация, однако человек делает все возможное, чтобы заглушить в себе сознание этого, переходя от забвения смерти к ужасу перед ней и наоборот. Пограничная ситуация осуществляется лишь там, где есть экзистенциальный опыт смерти. В таком опыте смерть переживается не как объективное событие во времени, касающееся другого или даже меня самого. «Смерть как объективный факт существования еще не есть пограничная ситуация» (13: 483). Смерть в широком смысле — это экзистенциальный опыт границы: боль отречения от возможностей, составлявших существенную часть меня самого. Так понятая смерть присутствует в пограничных ситуациях вины, страдания, тяжелой болезни, борьбы. Смерть в буквальном смысле слова — один из видов пограничной ситуации: переживание предельной границы существования. Только на этой границе я могу вступить в общение с тем, что по ту сторону экзистенции — с трансценденцией, Бытием, только здесь начинается подлинная экзистенция. «Если бы я обладал непрекращающимся существованием, я бы не экзистировал» (13: 484). Смерть в пограничной ситуации — это никогда не «смерть вообще»: это либо смерть ближнего, который был для меня единственным, любимым, либо моя собственная смерть. Если человек переживает смерть как «экзистенциальное потрясение», если он сознательно отрекается от уносимых смертью возможностей и в этом смысле умирает, то в его существовании происходит прорыв. «Этот скачок есть словно рождение новой жизни; смерть входит в новую жизнь» (13: 485). В этом прорыве «экзистенция... обретает убежище в трансценденции: то, что унесла смерть, есть лишь явление, но не само бытие» (13: 485). После этого опыта все события жизни оцениваются «с точки зрения смерти»: «то, что перед лицом смерти остается существенным, то входит в экзистенцию; то, что оказывается несостоятельным, — остается не более чем существованием» (13: 485). Обобщая, можно сказать, что экзистенция — это жизнь перед лицом смерти. Но это не значит бояться смерти или заранее готовиться к ней. Боль, причиняемая смертью, становится силой, просветляющей экзистенцию, и тем самым источником новой жизни. Другое ключевое понятие экзистенциализма Ясперса — коммуникация. Ситуация, коммуникация и вера — три «переменных» в формуле экзистенции. Цель экзистенциального философствования — приведение человека к состоянию безграничной коммуникации. «Безграничность» коммуникации не означает ни продолжительности, ни информационной насыщенности общения. Даже один взгляд может выражать безграничную коммуникацию. Это общение людей, которым абсолютно нечего скрывать друг от друга, потому что каждый из них есть он сам и именно в общении с другим становится самим собой. Безграничная коммуникация возможна только на основе веры. Философская вера Ясперса — условие безграничной коммуникации и, тем самым, условие обретения подлинного самобытия экзистенции. Философская вера не может быть выражена в каких-либо догматах и вообще общезначимо. Истина веры — не то, что я знаю и могу поведать другим, но то, чем я живу, что я есть. «Истина, которой я живу, существует лишь благодаря тому, что я становлюсь тождественным ей; в своем явлении она исторична, в своем объективном высказывании она не общезначима, но безусловна» (6: 422). Мыслители, единые в философской вере, с необходимостью должны давать ей различные выражения, в соответствии со своей исторической ситуацией.Содержание философской веры Ясперс выражает в трех тезисах (6: 434): Бог есть (и Он есть трансценденция); существует безусловное требование; мир обладает исчезающим наличным бытием между Богом и экзистенцией (мир есть язык любви Бога). У веры Ясперса есть свои «святые», — это философы, подтвердившие философскую веру своим мученичеством: Сократ, Боэций, Бруно. Молитвы в обычном смысле как словесного обращения к Богу или святым у Ясперса нет, но есть некий аналог молитвы в действии трансцендирования, когда экзистенция, обращаясь вовне себя, вступает в непосредственное сообщение с трансценденцией. «Объективное должно оставаться в движении и как бы испаряться, чтобы в исчезающей предметности именно благодаря исчезновению становилось ясным наполненное сознание бытия» (6: 429). С «испарением» рассудочно фиксированной предметности экзистенция обретает способность свободного парения в пространстве ничто, которое вместо ужасающей пропасти становится для нее пространством свободного полета. Основное противоречие в философствовании Ясперса — противоречие, осознаваемое и принимаемое в качестве диалектического источника движения мысли, — это противоречие между индивидуальным и всеобщим. На стороне всеобщего, во-первых, требование «безграничной коммуникации», которое, например, исключает использование религиозных символов не общезначимых, не приемлемых для всякого человека, в том числе не верующего в Откровение и чудеса. Если бы не факт наличия многих религий, Ясперс наверняка более определенно опирался бы на христианство, но ему приходится искать «общий знаменатель» всех религий, который мог бы быть основой всеобщего взаимопонимания в «безграничной коммуникации». Во-вторых, требование разумности. Разум — это и есть требование безграничной коммуникации и движение к ней. «Любое чувство истины[52] раскрывается лишь тогда в чистом виде, когда оно очищено в движении разума» (6: 440). Соответственно, Ясперс отрицает в вере и ее содержании все иррациональное, недоступное разуму и потому некоммуницируемое, как, например, опыт христианских мистиков. С другой стороны, человеческая ситуация всегда индивидуальна, и в пограничной ситуации это одиночество обнажается особенно остро. Но индивидуальность никогда не остается самодовлеющей замкнутой в себе сферой, так как экзистенция изначально исторична, во всех четырех своих модусах. Это означает, что она производит себя из материала, полученного от традиции, а традиция — всегда сообщение, коммуникация. Поэтому вопрос, что первично, индивидуальное или всеобщее, лишен смысла. Индивидуальное противостоит всеобщему в вечной борьбе — и это не только диалектическая борьба на плане идей, но и духовная борьба становящегося духа, и даже социальная и политическая борьба человека против уничтожающего индивидуальность массового порядка существования. Однако эта борьба разрешается в конечном счете в гармоническое единство, так как ни в одной сфере, включая социальную, индивидуальное не может существовать без всеобщего, и наоборот. Литература 1.Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии: В 2 т. М.; СПб., 1996. 2.Ясперс К. Общая психопатология. М, 1997. 3.Мартин Хайдеггер / Карл Ясперс: Переписка 1920— 1963. М., 2001. А 4.Ясперс К. Стриндберг и Ван-Гог. СПб., 1999. 5.Ясперс К. Ницше: Введение в понимание его философствования. СПб., 2004. 6.Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. 7.Ясперс К. Введение в философию. Минск, 2000. 8.Ясперс К. Вопрос о виновности: О политической ответственности Германии. М., 1999. 9.Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. 10.Ясперс К. Философская автобиография. М., 1995. 11.Больнов О. Философия экзистенциализма. СПб., 1999. 12.Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997. 13.Jaspers К. Philosophie. Berlin — Gott. — Heidelberg, 1948. 14.Jaspers К. Chiffren der Transzendenz. Munchen, 1970. Глава 15. ХАЙДЕГГЕР Мартин Хайдеггер родился в 1889 г. в городке Месскирх на юге Германии, учился в иезуитском училище в Констанце и в гимназии во Фрайбурге-ин-Брейсгау, которую окончил в 1909 г. Там же он поступил в университет, где в течение первых двух лет изучал теологию, затем — философию, гуманитарные и естественные науки. По окончании курса в 1913 г. защитил диссертацию на тему «Учение о суждении в психологизме», затем стал преподавать в том же университете. В 1915 г. за работу «Учение Дунса Скота о категориях и значениях» произведен в доценты. В том же году был призван в армию (до 1918 г.), но на фронт не попал. В 1923 г. переходит на должность экстраординарного профессора в Марбурге (до 1928 г.). В 1927 г. выходит в свет главная работа Хайдеггера «Бытие и время». В 1928 г. приглашен во Фрайбург возглавить кафедру, освободившуюся после отставки Гуссерля. Весной 1933 г. избирается ректором того же университета. 27 мая, при вступлении в должность, произносит речь «Самоутверждение немецкого университета», в которой намечает масштабную программу реформы университетского образования в соответствии с принципами своей философии. Поскольку контроль над духовной жизнью в это время уже полностью находился в руках нацистов, Хайдеггеру пришлось в своей речи использовать соответствующую фразеологию. Впоследствии, и до настоящего времени, эта речь служит главным основанием для обвинений Хайдеггера в связях с нацистами, а его философии — в близости к нацистской идеологии. В 1934 г., осознав неисполнимость своей реформы, Хайдеггер отказывается от ректорства. В последующие годы стиль произведений Хайдеггера резко меняется, так что 1933 —1935 гг. принято называть «Поворотом» в его философствовании. С 1945 по 1951 г. оккупационные власти запрещали Хайдеггеру преподавательскую деятельность. В последующие годы жизнь философа протекала без особых внешних событий, в преподавании, чтении докладов, выступлениях. Умер Мартин Хайдеггер в 1976 году. Хайдеггер и феноменология. Философское сотрудничество Гуссерля и Хайдеггера продолжалось с 1919 года, когда Хайдеггер стал заниматься и преподавать под руководством Гуссерля на кафедре философии Фрайбургского университета, и до 1929 года. После выхода «Бытия и времени» в 1927 г. Гуссерлю понадобилось 2 года, чтобы осознать, насколько далеко Хайдеггер в этой работе отошел от феноменологии в его собственном понимании. По мысли же Хайдеггера, «Феноменология может быть воспринята только феноменологически, т. е. не просто повторением ее основоположений или верой в школьные догмы, но посредством отталкивания от нее» (14: 74). Это«отталкивание» выражается в том, что Хайдеггер не принимает в феноменологии: 1) феноменологическую установку как позицию «незаинтересованного наблюдателя »; 2) учение о трансцендентальной субъективности как абсолютном («чистом»)сознании; 3) метод редукции. Критика феноменологической установки. Гуссерль требовал от феноменолога стать трансцендентальным субъектом, незаинтересованным наблюдателем, несколько наивно полагая, что любой ученый, как честный и самоотверженный человек, легко на это способен. При этом он сознавал, что подобная смена познавательной установки должна сказаться и на жизни человека, привести его к тому, чтобы «жить по истине». Единственное, чего он не учел, — это инерция человеческого сознания. Хайдеггер отнюдь не идеализировал человеческую природу и видел, что «притворство и ложь составляют стихию человеческого существования» (1: 33). Борьбу с этим и стремление к «позитивному раскрытию сути вещей» Хайдеггер понимал уже совершенно иначе, чем Гуссерль, иначе понимал и «вещи», подлежащие раскрытию. В немецком языке «вещь» может быть названа Sache или Ding. В призыве «к самим вещам» Гуссерль употребил слово Sache, Хайдеггер же ориентируется на «вещи» в смысле Ding: ««К вещам» (Sache) значит и «к самой сути дела», и к тому «нечто», каким занята определенная научная дисциплина, но не значит в первую очередь — к «вещественности», или «вещности» тех «вещей», которыми она занята...» (2: 196). Sache —скорее «предмет», чем «вещь». В русском языке можно сказать, что и феноменология, и герменевтика ориентированы на сами вещи, но первая — на Sache, вторая — на Ding. «Предметы — это первично не объекты теоретического познания, но те вещи, какими я занимаюсь, с какими имею дело, — они имеют в себе отсылки к тому, для чего они служат, к их применению, к их полезности... Ближайший мир — это мир практических забот» (2: 162— 163). Именно «мир практических забот» становится для Хайдеггера «полем феноменологического анализа», здесь он отделяет «жизнь по истине» от «неподлинной жизни», поэтому он не собирается занимать позицию «незаинтересованного наблюдателя». Критика трансцендентальной субъективности. Изменение отношения к миру связано с изменением подхода к человеку как субъекту опыта. Хайдеггер выступает здесь против разделяемого Гуссерлем декартовского и вообще рационалистического подхода к субъекту. «Это понимание, — пишет Хайдеггер, — будто бы первым делом и прежде всего дано лишь Я — некритично. В качестве предпосылки оно использует примерно следующее: сознание — что-то вроде ящика, причем Я находится внутри, а реальность снаружи. Естественное сознание как раз не имеет ни малейшего знания о чем-либо подобном» (2: 163). У субъекта нет некоего исходного самопознания, свет очевидности которого распространялся бы затем и на познание мира. «Познание обладает только возможностью сокрытия того, что изначально открыто в непознавательной деятельности» (1: 172). Хайдеггер ставит задачу «наглядно являть все бытие человека» в его жизненном, практическом бытовании, соответственно, на место трансцендентальной субъективности в той же роли объединяющего центра опыта и единственного источника всех смыслов он ставит категорию Dasein. Dasein. Хайдеггер уже в ранних произведениях стремился к «истолкованию языка», нагружая философским смыслом слова естественного немецкого языка. Термин Dasein в разговорном языке означает «жизнь», «существование», причем в аспекте временности, конечности — как «время жизни». Но в то же время слово Dasein несет в себе и корень Sein, «бытие», дающий возможность его онтологической интерпретации. Хайдеггер использует эту особенность слова Dasein, чтобы в самой временности человеческой жизни вскрыть план бытия как исходной основы сущего. По определению Хайдеггера, Dasein — это особый род сущего, сущность которого заключается в его бытии, экзистенции. Замена трансцендентальной субъективности на Dasein делает ненужным основополагающий для феноменологии метод редукции естественного сознания к трансцендентальному Эго. Хайдеггер заменяет этот метод методом истолкования «бытийных характеристик» Dasein, поэтому основным методом для него становится герменевтический. Герменевтика Хайдеггера отражает стремление бороться с бессмысленностью мира «естественной установки», не отворачиваясь от него, но посредством истолкования творчески наполняя его реальностью живого и подлинного смысла. «Бытие и время». Выход этой работы в 1927 году сразу сделал Хайдеггера одним из виднейших философов Германии. Ни одна из последующих работ Хайдеггера не вызвала подобного резонанса, так что иногда все творчество философа рассматривают через призму этого произведения, что сам Хайдеггер вовсе не приветствовал. Публикация курсов лекций Хайдеггера, прочитанных им в 1923— 1925 гг., показала, что основная часть «Бытия и времени» составлена из материалов этих лекций. В «Бытии и времени» «феноменологическая герменевтика» Dasein принимает вид системы «фундаментальной онтологии». В связи с этим Хайдеггер ставит задачу «деструкции истории онтологии» — на том основании, что, по его мнению, вопрос о бытии со времени Древней Греции так и не был поставлен в истинном смысле. Это стало возможно лишь в наше «последнее» время, когда само бытие «поставлено под вопрос» и требует обоснования. Вопрос о бытии может быть адресован только сущему. В немецком языке слова «бытие» (Sein) и «сущее» (Seiende, «бытийствующее») — однокоренные. Хайдеггер использует это обстоятельство для установления обосновывающего отношения между бытием и сущим. Правда, и само сущее обосновывается в бытии — обоснование движется здесь по кругу, но для Хайдеггера это вполне естественно, так как «Феноменология присутствия [Dasein] есть герменевтика в исконном значении слова, означающем занятие толкования» (3: 37), а герменевтический крут — один из главных методов герменевтики. Вопрос о бытии, далее, обращается не к любому сущему, но к такому, сама сущность которого заключается в отношении к бытию — именно таким сущим является Dasein, экзистирующий человек. Смысл бытия должен быть открыт посредством «аналитики Dasein», так как Dasein — источник всех возможных смыслов, в том числе и смысла «бытие». Какое «бытие» Dasein первично и изначально? По Хайдеггеру, не какое-то «абсолютное бытие», первичное как «логическое условие мыслимости» всего сущего, но бытие как «повседневное бывание»: оно первично, так как всякий анализ вырастает из этого бывания, черпает в нем и смыслы, и средства для их выражения. Поэтому «фундаментальная онтология» начинается с аналитики «повседневного» Dasein: в соответствии с принципом беспредпосылочности, Хайдеггер не вводит никаких аксиом или гипотез и начинает с того, что дано до всякого научного и философского анализа — с обыденной жизни. «Обоснование бытия» в аналитике Dasein осуществляется путем раскрытия «модусов бытия» Dasein, или «способов вхождения Dasein в мир» — экзистенциалов. «Экзистенциальную структуру» Dasein — то есть, общий характер экзистенции и, соответственно, структуру всех экзистенциалов — Хайдеггер определяет как «Набросок». Набросок у Хайдеггера соответствует гуссерлевской интенциональности как принципиальной направленности сознания на предмет: «Набросок» — это «экзистенциальная структура» Dasein, то есть структура вхождения Dasein в мир, в котором оно изначально уже пребывает (бытие-в-мире). В «Бытии и времени» в результате «набрасывания» Dasein из себя на мир в акте понимания конституируются «возможности». Так же, как смысл — не нечто абстрактное, но смысл для сознания, так и возможность — не модальность вообще, но возможность для Dasein быть каким-то или сделать что-то: «Dasein есть таким способом, что оно исконно понимало — умело — могло или не понимало — не умело — не могло быть таким-то или таким-то» (4: 4 — 5). Что Dasein не есть «в возможности», то оно «экзистенциально» есть. Т. е., все, что Dasein понимает, «выходя из себя» навстречу миру, — оказывается, принадлежит самому Dasein, и ему никогда не удается убежать от себя, как не убежать от себя глубоко несчастному человеку, несущему боль в сердце. Собственное и несобственное существование. Поскольку Dasein есть свои возможности, оно может исчерпывающе реализовывать эти возможности, «выбирая себя», или, напротив, «терять себя». Отсюда два модуса экзистенции Dasein — существование «собственное» и «несобственное» (подлинное и неподлинное). Отношение между собственным и несобственным способами существования Dasein — основная проблема феноменологической аналитики. Хайдеггер ищет «собственный» модус для каждого из различных способов бытия Dasein: 1.Бытие в мире, «заброшенность». 2.Бытие с другими людьми, со-бытие. 3.Бытие «с самим собой» — бытие к смерти. Изначальный опыт Dasein — как раз несобственное, потерянное, «падающее» существование, поэтому именно с него и должна начинаться, по Хайдеггеру, аналитика Dasein. Забвение себя и «падение» само по себе свойственно Dasein, так как бытие Dasein есть самое отталкивающее для нашего взгляда, то, что мы хотели бы знать в последнюю очередь и от чего постоянно заслоняемся наличным сущим. Но цель герменевтики — сделать Dasein доступным самому себе, поэтому герменевтика у Хайдеггера всегда в некотором смысле «насильственна» и должна противостоять стремлению Dasein раствориться в сущем, в беспамятстве, в толпе. Бытие в мире. Dasein изначально присуща фундаментальная конституция «бытия-в», в корне отличная от «бытия-в» других видов сущего. Dasein как экзистенции Хайдеггер противопоставляет «налично сущее» и «подручное», которые целиком и полностью исчерпываются их действительностью и потому могут быть зафиксированы как «факт». Наличные вещи могут находиться в чем-то лишь пространственно, Dasein же — в силу того, что оно по своей природе «выступает» из себя и «заступает» в окружающий мир. Dasein конституирует вокруг себя некое смысловое пространство, в котором то, что значимее, то и больше, и ближе, а то, что не важно, — меньше и дальше. По Хайдеггеру, именно смысловое пространство первично, а пространство математики и физики — производная от него искусственная идеализация. Смысловое пространство строится Dasein в ходе повседневной деятельности как универсальная «взаимосвязь отсылок» (Verweisungszusammenhang) — сеть практических смысловых связей типа «молот — наковальня — кузница». Эта взаимосвязь первична по отношению к отдельной вещи: вещь «бросается в глаза», выделяется из неопределенного горизонта лишь тогда, когда она выпадает из контекста, «ломается», восстает против целого. Поскольку аналитика Dasein есть, по определению Хайдеггера, герменевтика, предметом которой является сама действительность мира повседневной жизни Dasein, можно сказать, что предмет аналитики — смысловые связи в мире как саморазвивающемся тексте, причем автор этого текста, Dasein, сам включен в него в качестве одного из знаков, конечно, особого рода. Подлинная задача герменевтики — истолковать мир как текст — развертывается по схеме герменевтического круга: понять целое можно, только исходя из понимания частей, в том числе из понимания себя как части мира, и наоборот, часть — только из целого. Но прежде чем мы знаем что-то о частях, у нас всегда есть предпонимание целого, смутность которого и нужно прояснить. Поскольку мы сами включены в это смутно ощущаемое целое, то предпонимание мира, подлежащего интерпретации, можно сравнить с ощущением «мира» как покоя, как слаженного, размеренного потока, который несет нас, не требуя нашего сознательного участия, но оставляя для него возможность. Герменевтика — как взаимоистолкование мира через себя и себя через мир — должна сделать Dasein сознательным участником проекта «мир», автором которого оно является. Истинная цель герменевтики — привести Dasein в состояние бодрствования (Wachsein) относительно себя самого в своем «есть». Собственный способ бытия в мире Хайдеггер определяет как Заботу. Забота — «основной феномен Dasein» (14: 103), центральный среди всех экзистенциалов. Как и само Dasein, категория «забота» несет двоякий смысл: в отношении Dasein как жизни забота означает психологическое состояние серьезности и сознания ответственности. Но если бы «забота» имела только этот смысл, на ее место можно было бы поставить, например, «любовь», что и в психологическом, и в этическом смысле для многих более привлекательно. Но — не в онтологическом, по крайней мере для Хайдеггера. Забота — это прежде всего бытийная характеристика Dasein; именно в состоянии заботы Dasein наиболее полно включено в мир; любовь может уводить и за пределы мира[53], но забота всегда предполагает действительный предмет. В заботе Dasein становится способным забывать себя и выходить за границы собственной самости — к миру. Хотя задачей герменевтики, по видимости, является приведение Dasein к «собственному» способу бытия в отношении к миру, к людям и к самому себе, но «несобственный» способ этим не уничтожается и даже не «снимается» в диалектическом смысле: Dasein всегда остается в пространстве между «собственным» и «несобственным», между бодрствованием и повседневностью; более того, эта двойственность, эта возможность выбора — и есть способ экзистенции Dasein. Dasein никогда не может перестать быть сущим, причем таким, которое всегда стоит перед выбором того или иного себя, и все, что может сделать герменевтика, — дать ясное осознание самого этого выбора, потому что обычно мы выбираем несобственный способ бытия, просто не предполагая, что возможно что-то еще. Бытие Бытие-с (Mitsein) и Бытие-с-другими (Miteinandersein). Когда Хайдеггер рассматривает бытие Dasein с другими людьми, оказывается, что любая интерсубъективность, любое со-бытие и бытие-с-другими есть Man, усредненное, отчужденное бытие. «Dasein вращается в определенном способе говорения о самом себе — молве, толках, слухах. Это говорение «о» самом себе есть тот открытоусредненный способ, которым Dasein получает и утверждает себя. Эта молва есть тот способ [das Wie], каким Dasein получает в свое распоряжение свою собственную истолкованность. Эта истолкованность не есть нечто, привнесенное в Dasein, навязанное ему извне, но то, что произошло с Dasein в силу того, что оно есть, там, где оно живет (Как его бытия)» (14: 31). Истолкованность Dasein через молву и слухи, — конечно, несобственный модус его бытия. Но, так же, как и в бытии-в-мире, несобственный модус оказывается здесь неустранимой необходимостью: включенность Dasein как «знака» в контекст других знаков есть его неотъемлемая характеристика. Человек не может сам себя родить, вырастить и жить в одиночестве. Dasein — сущее среди другого сущего, и потому — знак среди других знаков, слово в Книге Жизни. Вся Книга есть связное повествование, и слово (Dasein) не может вырваться из предложения, не потеряв смысла. Даже если это лучшее слово в Книге, его делает таковым вся Книга. Но Dasein — не только «сущее» (знак), но и бытие (смысл), и относится ко всей жизни сущего, как смысл к знаку. Правда, молва и слухи — самая внешняя, грубая и потому трудная для интерпретации ступень языка жизни, но это первая и необходимая ступень: человек должен действовать в обществе, а значит, должен быть обсужден и «обтолкован». Другое дело, что на этой ступени нельзя останавливаться, и надо идти к более утонченным формам жизни смысла. Бытие-с-другими — модус бытия Dasein, для которого Хайдеггер не находит соответствующего ему собственного способа бытия. Тем самым проблема интерсубъективности обретает здесь новую форму: у человека есть изначальный опыт другого, существование другого «я» не составляет уже проблемы, но проблему теперь составляю «я сам». Реальный вопрос человеческой экзистенции, по Хайдеггеру, как раз противоположен «проблеме интерсубъективности» европейского рационализма от Декарта до Гуссерля: обычный человек никогда не сталкивается с проблемой достоверности существования других «я», напротив, актуальной задачей бывает отличить себя от других, «найти себя», затерявшегося в чужих мнениях, навязанных образах поведения и т. д. Да, знак всегда стоит в контексте, он должен быть общезначим, также и Dasein как сущее. Но смысл — всегда индивидуален. Таково же Dasein как бытие. Бытие Dasein и путь к его собственному способу бытия Хайдеггер открывает во временности и бытии-к-смерти. Смерть. Через аналитику смерти Хайдеггер вводит в «Бытии и времени» проблему временности Dasein. «Феноменологическое усмотрение» смерти кажется невозможным, так как своя смерть не может быть предметом опыта, а чужая смерть может, но не в собственном смысле: смерть всегда моя, и ничья больше. В момент смерти, как и в момент рождения, человек абсолютно одинок. Но «герменевтика смерти» возможна и необходима: «Подразумеваемое смертью окончание значит не законченность присутствия [Dasein], но бытие к концу этого сущего. Смерть — способ быть, который Dasein берет на себя, поскольку оно есть» (3: 245). Dasein — жизнь — обретает целостность не в момент смерти, но имеет эту целостность благодаря присутствию смерти всегда и в каждый момент жизни. В противовес декартовской формуле «я есмь вещь мыслящая» Хайдеггер выдвигает другую: «Я есмь умирающий»; «я сам есть эта постоянная, предельная возможность меня самого, а именно — возможность более не быть». Как любая возможность Dasein, эта возможность принадлежит к его сущности. «Стало быть, Dasein сущностным образом есть своя смерть» (1: 330). Но быть смертью, или, точнее, быть к смерти, Dasein может либо собственным, либо несобственным образом. Несобственное отношение к смерти выражается в ходячем трюизме «все смертны». Этот подход эксплуатирует неопределенность момента смерти и определенность относительно самого факта. Подразумевается: «да, все смертно, но не я, во всяком случае, не сейчас». За этим кроется самое паническое бегство от смерти или от того, что в нас смертно, к тому, что считается бессмертным, или просто к забвению. Но, как и в других формах «падения», Dasein здесь теряет себя, причем теряет надежнее всего, ибо страх смерти самый действенный. Собственный подход к смерти диаметрально противоположен: здесь смерть — уже не событие, завершающее историю человека как живого существа, но «обратная сторона жизни». Памятование о смерти — memento mori — есть самый верный способ перейти от забытья усредненного Man к бодрствованию. Смерть — та возможность прямого ничто (возможность для Dasein стать «ничем»), у которой Dasein должно себя всякий раз отвоевывать. «Dasein умирает фактично все то время, пока оно экзистирует, но обычно и чаще в модусе падения» (3: 251—252). По словам Гете, — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой» — по Хайдеггеру, более того, сама жизнь — это и есть то, что отвоевано у смерти, и даже сам процесс «отвоевания». В модусе падения Dasein бежит от смерти в беспамятство Man, потому очень мало может отвоевать у нее. Только в модусе бодрствования Dasein прямо устремляется к смерти как «наиболее собственной способности быть». Время («временствование») — является одним из экзистенциалов Dasein и также имеет собственный и несобственный модусы. В отличие от многих других философов, Хайдеггер определяет настоящее, «здесь и сейчас», как несобственное, так как оно бежит от будущего (в конечном счете — от смерти) и от прошлого (от экзистенциальной вины). Как и Августин, Хайдеггер говорит, что будущее уже есть для Dasein, уже присутствует в его «сфере возможностей», и называет «бытие-к-будущему» решимостью, а «бытие-к-прошлому» — виной. «Тот, кто действует, всегда бессовестен». Это происходит от того, что Dasein, осуществляя себя как выбор из круга «наброшенных» возможностей, всегда неизбежно уничтожает многие возможности, несовместимые с избранной к осуществлению. Это уничтожение абсолютно и безвозвратно, и именно оно является основанием экзистенциального «бытия-виновным», а уже последнее делает возможным любую фактическую виновность[54]. Значение «Бытия и времени». Феноменальная популярность «Бытия и времени» и его влияние, не уменьшающееся, но даже растущее с годами, — факт, еще ждущий научного объяснения. «Настрой» (Stimmung) «решимости бодрствовать в заботе» оказался очень созвучным потребности современного европейца. В этой заботе человек получил новый источник смысла. Вернее, простые, деревенские люди всегда находили себя в заботе, поэтому проблем со смыслом жизни у них не возникало. Хайдеггер постарался перевести это здоровое мироощущение на язык философии: не отношение к вневременному миру чистого духа или разума наполняет смыслом жизнь — в самом временном для смертного лежит источник смысла. Но он и не в комфортном покойном обустройстве в материальном мире. В гуще вещей и дел повседневности, через пробуждение к постоянному бодрствованию, жизнь человека обретает неисчерпаемый источник смысла. Мир поручен человеку. Забота о мире и человеке в нем — вот смысл бытия Dasein, предлагаемый Хайдеггером человеку. «Поворот» — так в творческой биографии Хайдеггера принято называть 1934—1936 гг., когда произошла коренная трансформация хайдеггеровского философствования, изменились вопросы и задачи его философии, а, главное, сам язык его работ. В 1933 г., после осознания неисполнимости задуманной им реформы университета и отставки с должности ректора, Хайдеггер удаляется в маленький домик в Альпах, лишь ненадолго покидая его для чтения лекций, докладов, переговоров с издателями. По свидетельству самого Хайдеггера, жизнь на природе, среди величественного горного ландшафта и простых деревенских людей оказала мощное воздействие на его философствование. Хайдеггер проникается основательностью и размеренностью трудовой деревенской жизни, и его философствование трансформируется в нечто подобное этому крестьянскому труду, своеобразное «возделывание поля мысли». «Крестьянское философствование» Хайдеггера после Поворота — это безразличное к критике спокойное утверждение. Крестьянский труд есть спокойное утверждение, поскольку он сопровождается сознанием вложенных сил и чувством ответственности: если я не сделаю это, то этого не сделает никто. Здесь действует право творца и первооткрывателя. Но для многих оставшихся в городах почитателей и ценителей творчества Хайдеггера, для которых в свое время «Бытие и время» стало откровением, Поворот 30-х г.г. остался непонятен. Многие ожидали объявленного продолжения «Бытия и времени», но Хайдеггер не удовлетворил этих ожиданий. Более того, его философствование стало совершенно другим. Многим показалось, что Хайдеггер «застыл в позе превосходства над всякой аргументацией», «опустился до ритуально инсценированной мысле-поэзии» (11:81). Преодоление метафизики — новая задача, которую Хайдеггер ставит перед собой после Поворота. Распознав в лице нацизма проявление «метафизики» в самом худшем смысле, Хайдеггер стал иначе относиться к использованию терминов традиционной метафизики в собственном философствовании и к самой метафизике. Если раньше у него шла речь о ее «обосновании», то в 1936 году Хайдеггер начал собирать записи, вышедшие впоследствии (1954) под названием «Преодоление метафизики». «Метафизика» после Поворота определяется Хайдеггером как роковое для всей западноевропейской цивилизации «забвение бытия» ради сущего: «Метафизика — это забвение бытия и таким образом, история скрывания и ухода того, что дает бытие» (6: 184).Переосмысление «бытия». До Поворота отношение человека к бытию характеризовалось Хайдеггером как «эк-зистенция», «вне-стояние», «выступание» из себя. Т. е., бытие, в русле всей традиционной метафизики, трактовалось им как трансцендентное сущему. После Поворота ситуация меняется: хотя для того, чтобы получить переживание бытия, нужно еще пройти долгий путь осмысления, но само бытие — всегда здесь, путь к нему — это путь туда, где мы «и так всегда пребываем». Иными словами, теперь в бытии подчеркивается его имманентность сущему. «Герменевтика языка». Работа с языком с самого начала была органичной частью герменевтического метода Хайдеггера. Уже в «Бытии и времени» Хайдеггером была поставлена проблема отношения между языком и бытием. Это отношение также могло быть «собственным» и «несобственным»: «Истолкование может почерпать понятийность в самом же сущем, а может силой загонять сущее в такие понятия, которым сущее противится по мере своего способа бытия» (4: 12). После Поворота Хайдеггер ставит задачу выработать язык, открытый для «истины бытия», которому должны быть свойственны «строгость осмысления, тщательность речи, скупость слова» (5: 220). С этой целью Хайдеггер разрабатывает своеобразную герменевтику языка. Герменевтика, как правило, имеет дело с речью, письменной или устной, или с другими знаками. Хайдеггер с самого начала развития своей герменевтики очень расширил ее предмет: сначала он говорил об «истолковании действительности», потом предметом герменевтического вопрошания стало «Ничто». После «Поворота» сам язык становится предметом истолкования. Для традиционной герменевтики это нелепо: смысл может быть вложен в текст только автором, а если автор не сделает этого, текст будет бессмысленным. У языка же нет «автора», поэтому не может быть и смысла. Для Хайдеггера, наоборот, смысл, имеющий автора, всегда будет поверхностным и несущественным, его задача в том, чтобы «позволить языку говорить». «Оставим говорение языку. Мы не можем ни утверждать нечто о языке на основе чего-то иного, чем он не является, ни толковать посредством языка что-то иное» (15: 12-13). Это истолкование языка развертывается у Хайдеггера в двух направлениях. Первое из них — «вслушивание» в звучание корней слов. Осмысленное говорение должно «руководствоваться скрытыми богатствами, которые язык держит для нас в запасе так, что эти богатства имеют право требовать от нас сказания языка» (15: 91). Под «скрытыми богатствами» Хайдеггер понимает здесь нечто подобное «внутренней форме» слова по теории А. Потебни: звук или сочетание двух-трех звуков, несущих некий изначальный «атом смысла»[55]. Ряд древних мыслителей, а в начале ХХ в. поэты-символисты, считали, что каждый звук в отдельности несет определенный смысл. Различные комбинации звуков означают и соединение заложенных в них смыслов. Хайдеггер не доходит до анализа смысла отдельных звуков, но рассматривает как осмысленные некоторые изначальные звуковые формы немецкого языка, используя даже данные сравнительного языкознания (его собственный пример: нем. giessen, Guss, «лить», соответствует в индогерманском ghu, что значит «жертвовать»), Хайдеггер рассматривает в этом аспекте язык как результат многовековой деятельности мысли. Каждое слово за то время, которое оно «удостаивалось» быть «непосредственной действительностью мысли», претерпело значительную эволюцию и стало живой памятью обо всех ее этапах. Хайдеггеру, однако, ценна не вся эта эволюция, последняя фаза которой проходила под знаком метафизики, а самые изначальные пласты смысла, которые лишь с трудом можно «расслышать» в корнях современных слов. На этих «изначальных смыслах» Хайдеггер старается строить терминологию своей герменевтики, ими же обусловлена та специфика, которая отличает эту терминологию от понятий традиционной метафизики. «Понятия» метафизики — это слова, не продуманные до глубины, потому в них звучит только поверхностный смысл. Серьезный мыслитель должен, по Хайдеггеру, заново продумать всю терминологию. Подобно крестьянину, налаживающему плуг для пашни или мастерящему инструменты, Хайдеггер обрабатывает в истолковании смысл слов: не спеша, вдумчиво и неутомимо. Природа языка: говорение и Сказ. Согласно знаменитому положению Хайдеггера, «язык есть дом бытия». Дело в том, что одно из определений Dasein, данных в «Бытии и времени», — «понимание», а сфера понимания устанавливается языком или сама есть язык. Соответственно, язык можно понимать как некую сферу, в которой развертывается экзистенция Dasein, образно — как «дом его бытия». Так же, как и в других отношениях, в отношении к языку экзистенция Dasein может быть «собственной» и «несобственной». Для обычного внешнего («несобственного») понимания язык — это говорение. Как «говорение», язык вращается в сфере «наличного» сущего. Это понимание языка исходит из предположения, что «внутри» человека есть некоторые смыслы, которые он «выражает» вовне посредством слова. Язык здесь понимается, соответственно, как чисто вспомогательное средство выражения мысли. Именно так понимается язык в метафизике. По Хайдеггеру, язык в его собственном смысле есть нечто гораздо большее. Философ определяет язык в этом смысле как Сказ. Язык не «говорит», он «сказывает». Исходному предпониманию мира как лада, несущего человека, теперь сопоставляется некий «первозвук», «настрой бытия», который надо уметь расслышать за всей полифонией наличного сущего. Это доступно только поэтам и философам. Вслушиваясь в этот «настрой бытия», человек может «дать ему слово». Если основная вибрация, тон бытия — это основа (Grund), то есть, земля, почва, то слово, по образному сравнению Гёльдерлина, любимого поэта Хайдеггера, — это бутон цветка, растущего из земли. Хайдеггер очень подчеркивает этот «земной» характер бытийности сказа: «Германские наречия называются Mundarten, [буквально] «виды рта», но этот «рот» не есть часть тела как организма. И тело, и рот есть часть земного течения и роста, в котором расцветаем мы, смертные, и от которого мы получаем звучность корней. Теряя землю, мы теряем корни. Гёльдерлин сравнивает слово с цветком, с бутоном цветка, и мы слышим при этом, как звук поднимается из земли, из сказа, в котором получилось так, что появился мир» (15: 101). Все, что коренится в земле, произрастает сказом, сказ — это сила роста и сам рост всех произрастаний, а то, что произрастает на почве бытия, — это мир.Язык как сказ развертывается наиболее полно в мышлении и поэзии. «Земной звук сказа вновь указывает нам на соседство различных способов сказа — мышления и поэзии» (15: 101). Хайдеггер называет поэзию и мышление «обитающими на удаленных вершинах»: как две вершины, возвышающиеся над бескрайней равниной, будут близки друг другу, хотя бы расстояние между ними и было велико, так близки друг другу поэзия и мышление, возвышенные в своем отношении к бытию над морем неосмысленного говорения. Интерпретация поэтических произведений — еще одно направление в хайдеггеровском «истолковании языка». Поэтический Сказ наделяется Хайдеггером неким бытийственным значением, родственным библейскому «да будет». Этот Сказ дает «существенное слово», в котором звучит «настрой бытия», — без этого слова не было бы возможно никакое сущее. Подтверждение тому Хайдеггер находит в стихотворении Стефана Георге «Слово»: «Не быть никакой вещи, где не хватает слова» (5: 302 — 312). Развитие этой же мысли Хайдеггер находит и в стихе Гёльдерлина: Но нам подобает, о поэты, Под божьей грозою стоять с головой непокрытой. И луч отца, его свет Ловить и скрытый в песне Народу небесный дар приносить. Существо поэзии есть установление сущего в Сказе — так Хайдеггер толкует «приношение небесного дара». Но этот дар «скрыт» в песне. Чтобы раскрыть его, требуется интерпретирующая работа мышления. В этой работе проявляется «собственная» сущность мышления — «внимание» (Vernehmen). «Внимание» — категория, парная «Сказу»; оно должно внять его дару, принять его так, что этот дар откроется в осмыслении. «Мышление есть внимание. Внимание в смысле присвоения дара [того сущего, которое установлено в поэзии] и в смысле сосредоточения на слушании того, что высказывает себя нам» (15:75 — 76). Теперь специфика человека как «сущего особого рода» приобретает новый смысл. Не «выход за пределы сущего в целом» в «эк-стасисе», в переживании изначального ужаса «выдвинутости в Ничто», но спокойное, серьезное и ответственное внимание. «Человек — существо внимающее». Именно своим вниманием человек высветляет круг вещей своего жизненного мира. Во внимании вещи становятся «присутствующими» при человеке. Каждую вещь можно уподобить цветку, растущему из плодородной почвы «изначального звука» бытия. Но цветок, как и слово, несамодостаточен. Цветок раскрывается навстречу солнцу. Слово также остается только возможностью, даже воплотившись в звуке, пока оно не было внято, то есть, допущено к сердцу, к источнику внимания в человеческом существе. Поэт подобен Богу: в творении своего мира он совершенно свободен, но несет и всю полноту ответственности. В эпоху, когда человек сам становится «поэтом» (греч. «творцом») действительности, творя свой, искусственный мир взамен старого, Хайдеггер напоминает человеку о «поэтической ответственности творца». «Фундаментальная настроенность» заботы, проанализированная в «Бытии и времени», получает теперь новое выражение: «Человек есть пастух бытия». «Бытийная история». В кризисные 30-е годы, когда обострилась потребность в обретении смысла истории, Хайдеггер стал размышлять о так называемой «бытийной истории». Это была своеобразная философия истории, рассматривающая план «бытийных событий», развертыванием которых были эпохи и поворотные события в ходе истории. Главное событие «бытийной истории» Европы, определившее всю ее судьбу, — «забвение бытия». Из метафизики как «забвения бытия» выросли новоевропейская наука и техника с их «набросками», никак не созвучными с «основным тоном» бытия. Стремление к техническому господству над природой привело к тому, что мир вокруг нас все больше наполняют пустые, неистинные вещи[56]. «Вещи... все больше перекладывают свое существование в неустойчивую дрожь денег». Происходит «опустошение сущего», достигающее в наши дни крайнего предела. «Опустошение» не значит просто «уничтожение», но — лишение смысла, глубины, существенности. Более частными «событиями», в которых развертывалось указанное забвение бытия, были 1) переосмысление существа истины в платоновском образе пещеры, положившее начало метафизике (5: 345 — 361), 2) победа метода, совершившаяся в философии Нового времени (5: 131 — 134), 3) «смерть Бога», «сбывшаяся» в философствовании Ницше (4: 168 — 217), и 4) «разнуздывание» метафизики в господстве новоевропейской техники (5: 177 — 192). Настоящее время переживает, по Хайдеггеру, событие «конца метафизики». Эпоха господства метафизики завершается. Это неизбежно отразится на всех сторонах жизни европейского человечества. Поскольку западноевропейская история началась с началом метафизики, сейчас она заканчивается, переходя в историю мировую. Философия в традиционном смысле приходит к концу, — раскрепощенная от нее мысль должна принять новые формы — Хайдеггер старался их нащупать, но не претендовал на то, что ему это удалось. Техника и наука должны принять новые, человечные формы существования. Как и поздний Гуссерль, Хайдеггер призывает к созданию новой науки, которая была бы «Dasein-соразмерной», т. е., исходила бы не из абстрактного субъекта, но из человека, живущего в мире, и служила бы полноте жизни (экзистенции). «Впервые начинающаяся сейчас мировая цивилизация преодолеет возникшую некогда технически-научно-индустриальную печать как единственный эталон пребывания в мире» (8: 263). Влияние Хайдеггера на последующую философию широко и многогранно. В США, Японии и др. странах появляется множество исследователей хайдеггеровской философии, но все же наибольший импульс она сообщила европейской мысли. Самое значительное ее влияние испытали на себе 1) экзистенциализм; 2) философская герменевтика и 3) философская антропология. Самое существенное в хайдеггеровском философствовании — сам способ и стиль философствования, он и оказал и продолжает оказывать наибольшее воздействие на мысль, призывая к «строгости осмысления, тщательности речи, скупости слова». Лишь в редких случаях влияние Хайдеггера выражается в заимствовании проблематики, как в труде Сартра «Бытие и ничто», или метода, как в «философской герменевтике» Ганса-Георга Гадамера. Философская герменевтика. Ганс-Георг Гадамер (1900 — 2002). «Философская герменевтика» — философская концепция, вскрывающая «принципиальную языковость (соотнесенность с языком) в любом понимании [и] момент понимания во всяком познании мира» (13: 13) и, таким образом, претендующая на роль универсальной философской дисциплины. Философствование Хайдеггера и было, по сути, универсальной философской герменевтикой, но Хайдеггер сознательно не ставил перед собой задачу разработки герменевтического метода как такового. Так же, как отделение субъекта действия от действия, так и отделение правила действия от действия, по Хайдеггеру, есть следы метафизического понятийного способа представления. Герменевтический метод почти не рассматривается им отдельно от того или иного истолкования. Гадамер, в отличие от Хайдеггера, прилагает в своей основной работе «Истина и метод» (1960) значительные усилия для прояснения концептуальных оснований герменевтического метода — прежде всего, природы понимания. Согласно Гадамеру, истина — не только свойство высказываний о действительности, научно удостоверяемых; истина постигается и в ненаучном опыте. Так, истина «показывает себя» в произведениях искусства, истории, человеческом общении. Самообнаружение истины есть понимание как исторический процесс, свершение, в которое понимающий всегда уже заранее включен. Гадамер творчески развивает хайдеггеровское учение о предпосылочности всякого понимания. Для него тезис Хайдеггера «понимание в своем бытии всегда исторично» означает, что «наше сознание является действенно-историческим (wirkungsgeschichtlich) [57], т. е., конституированным благодаря действенной истории, которая не оставляет свободным наше сознание в его отношении к прошлому». «Действенная история» — история, которая не ушла окончательно в прошлое, но продолжает воздействовать на настоящее и определять его. «Герменевтическое сознание должно быть действенно-историческим» — означает, что любое понимание должно сопровождаться осознанием своей обусловленности традицией, «встроенности» в нее. «В действительности не история принадлежит нам, а мы принадлежим истории... Самосознание индивида есть лишь вспышка в замкнутой цепи исторической жизни». Вновь перефразируя Хайдеггера, Гадамер призывает к «бодрствованию действенно-исторического сознания». Литература1.Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998. 2.Хайдеггер М. Кассельские доклады. М., 1995. 3.Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. М., 1997. 4.Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. 5.Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 6.Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. 7.Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. СПб., 2003. 8.Бимель В. Мартин Хайдеггер сам о себе. Челябинск., 1998. 9.Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер. М., 1999.Михайлов И. А. 10.Был ли Хайдеггер феноменологом? // Логос. М., 1994. № 6. 11.Философия Мартина Хайдеггера и современность. M., 1991. 12.Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. 13.Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 14.Heidegger M.Gesamtausgabe. Abt. 2: Vorlesungen, 1923 — 1944. Bd. 63. Ontologie (Hermeneutik der Faktizitat). Fr. a.M., cop. 1988. 15.Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. Pfullingen, 1960. Глава 16. CAPТP Жан-Поль Сартр (1905 — 1980) родился в Париже в семье морского офицера Жана-Батиста Сартра (умершего, когда сыну было всего два года) и Анн-Мари Швейцер. Будущий писатель и философ вырос в семье деда Шарля Швейцера (знаменитый мыслитель-гуманист Альберт Швейцер был его племянником), академического преподавателя и автора учебников в духе вольтерьянского вольнодумства и ненависти ко всякой тирании. Огромная библиотека деда питала юный ум внука и предрасполагала к разнообразию его интересов. Семья жила в «буржуазном достатке», и ребенок был огражден от всяческих жизненных невзгод, будучи «пай-мальчиком», уверенным в благополучии всего мира, который он постигал через книги: «Я начал свою жизнь, как, по всей вероятности, и кончу ее — среди книг» (4: 381). Поскольку в Бога он не верил, то и обрел в книге «свою религию» и «свой храм» (4: 390, 479). Это детское безбожное («Все решает детство», считал Сартр) вылилось в сознательный атеизм будущего философа, а «лейбницевский оптимизм» счастливого ребенка — при столкновении с грубой и мучительной реальностью — трансформировался в резкое ее неприятие, бунтарство и цинизм. В 1924 г. Сартр окончил парижский лицей Генриха IV и получил звание бакалавра. В 1928 г. он завершил образование в элитной Высшей нормальной школе и поступил в философскую аспирантуру Сорбонны, где познакомился с Раймоном Ароном, Леви-Строссом, Мерло-Понти, Э. Мунье, будущими духовными лидерами Франции. Там же он встретил и Симону де Бовуар, впоследствии известную писательницу, награжденную Нобелевской премией, ставшую его женой и убежденной идейной соратницей. Она напишет несколько биографических книг: «Мемуары молодой девушки из хорошей семьи» (1958), «Сила возраста» (1960), «Сила вещей» (1963), в которых проследит жизненные и духовно-идейные перипетии совместной жизни с Сартром до 1960 г. В 1929 г. Сартр получил звание «агреже де филозофи» (соответствующее нашей степени кандидата философских наук), дающее ему право преподавать философию в лицеях и университетах. К такого рода деятельности он был психологически предрасположен примером обожаемого деда: «с младых ногтей я был подготовлен к тому, чтобы видеть в педагогической деятельности священнодействие, а в литературной — подвижничество» (4: 383). Отслужив в армии, Сартр преподавал философию в одном из лицеев Гавра (1931 — 1933). Однако высшее свое призвание он видел в писательской деятельности и создании собственной системы философии. В 1933— 1934 гг. он стажировался во Французском институте в Берлине, где изучал феноменологию Э. Гуссерля, а также немецкий экзистенциализм с акцентом на философию М. Хайдег-гера, оказавшие на него сильное впечатление и послужившие теоретическими истоками его собственных взглядов. Как бы ни менял их динамичный Сартр, одно было неизменно — экзистенциальная тенденция его философии и художественного творчества. Центром притяжения его мысли был всегда человек, потаенный в своей глубине, неожиданный в своих реакциях, зачастую порочный в желаниях, сомнительный в поставленных целях, противоречивый страдалец и мучитель себя и других, ищущий свободы и независимости. «Экзистенциализм — это гуманизм», провозгласит Сартр в послевоенные годы и будет с увлечением читать лекции на эту тему (в том числе и в Америке), а в 1946 г. издаст брошюру с этим названием, на которую французский марксист Жан Канапа немедленно отреагирует опусом: «Экзистенциализм — это не гуманизм». Эта полемика добавит популярности Сартру, широко известному с момента выхода в свет в 1938 г. его романа «Тошнота», который сам автор хотел назвать «Меланхолия», но издатель настоял на более эффектном заголовке. Надо сказать, что вокруг имени Сартра вечно возникали «турбулентные потоки» слухов, мнений, клеветы, разноречивых оценок. Слава его в ХХ в. была не только огромной, но и зачастую скандальной. Он любил шокировать не только французского обывателя (например, пьесой «Добродетельная проститутка»), но и западного интеллектуала, заявив в послевоенном труде «Критика диалектического разума» (1960) о своем «согласии» с марксизмом, увидев в историческом материализме «единственное приемлемое объяснение истории» (6: 25). Во время майских событий 1968 г. во Франции Сартр оказался «выше всех» на баррикадах, призывая бунтующую молодость «свершить революцию» и взять власть в свои руки. Обвинив французских коммунистов в «предательстве революции», он занял «ультралевую», промаоистскую позицию, примкнув к «рабочей левой» во Франции «в пику» «интеллигентской левой» (это он-то — «мелкобуржуазный интеллигент», как он любил себя называть) и стал издавать боевую газету «Красное знамя», на лицевой стороне которой красовался портрет «великого кормчего Мао». Считая себя в стратегическом плане сторонником коммунистического движения, он вечно ссорился с французскими коммунистами, резко критикуя их политическую тактику. При его гипер-критицизме по отношению ко всему «буржуазному» ему и с «правыми» было не по пути. Занимая совершенно уникальную позицию в политической борьбе, Сартр всем был неугоден, всех он раздражал, причем не только врагов, но и друзей, как, например, Альбера Камю, друга и соратника по движению Сопротивления, резко выступившего против Сартра в послевоенные годы по идейным и политическим мотивам, не принимавшего ни его «дружбы» с Советским Союзом, ни «прокоммунистической» ориентации, ни эволюции его экзистенциализма под влиянием марксизма. Вызывающая деятельность Сартра породила такую ненависть к нему со стороны профашистской организации ОАС, что ее деятели бросили клич: «Расстрелять Сартра!» Наконец, укажем еще на один шокирующий эпизод из его жизни. В 1964 г. ему присуждают Нобелевскую премию в области литературы, от которой он демонстративно отказался, не желая себя связывать с ненавистными ему «буржуазными кругами». Да, этот яркий человек был блестящим писателем (роман-трилогия «Дороги свободы», 1945—1949, автобиографическая повесть «Слова», 1964, и др.) и драматургом (знаменитые пьесы «Мухи», 1943, «За запертой дверью», 1944, «Дьявол и Господь Бог», 1951, и др.). Он был «задиристым» политическим борцом (за мир, демократию, сво-боду личности), систематически печатая свои политические эссе в сборниках «Ситуации». Тем не менее «главное дело» его жизни — экзистенциальная философия, в которую он внес свой неповторимый и тоже «задиристый» вклад. Он создает свой уникальный вариант «классического экзистенциализма», опубликовав в 1943 г., в период фашисткой оккупации Франции, свой академический труд «Бытие и Ничто», сознательно противопоставленный «эпохальной» книге «Бытие и время» (1927) Мартина Хайдеггера. По сравнению с немецким мыслителем Сартр развивает более субъективистский вариант экзистенциализма, провозглашая: «Субъективность человека — наш исходный пункт». Он считает свою философию человека более «конкретной» в отличие от объективистской трактовки существования у Хайдеггера и выражает недоумение по поводу его абстрактных «экзистенциалов» (Бытие-в-мире, Dasein, Забота, Настроенность, Бытие-перед-Смертью, Время, Ничто и др.) как всеобщих онтологических структур. Сам же Сартр понимает их конкретность, заменяя абстрактное «Бытие в мире» — «конкретными ситуациями», чистое Ничто — его реальными «ликами», Время — конкретным психологическим временем, а Смерть выводит за пределы человеческого существования, лишая ее экзистенциальной значимости. В итоге возмущенный Хайдеггер всю жизнь «открещивался» от экзистенциализма и «пикировался» с Сартром. Правда, оба мыслителя использовали феноменологический метод Гуссерля для построения экзистенциальной онтологии, но каждый трактовал его в своем духе, ставя перед собой задачу описания «духовных сущностей». В «Бытии и Ничто» Сартр излагает «строгое учение» о человеческой реальности в ее отношениях с высшим миром, с культом активности субъекта в любой ситуации и ее преодолении, с идеей «абсолютной свободы» личности и ее ответственности, с утверждением абсурдности мира и отчуждении человека от него и от других людей. В лекции «Экзистенциализм — это гуманизм» он популяризирует свой экзистенциализм, выдвигая ставшую знаменитой формулу «Существование предшествует сущности» и два метода исследования человеческой реальности: экзистенциалистский и эссенциалистский. Первый исходит из приоритета существования над сущностью, что характерно для человеческого бытия, а второй — сущности над существованием, что имеет место в мире вещей. Этой формулой Сартр, во-первых, указывает на специфику человека «в отличие от плесени или цветной капусты». Во-вторых, эта специфика связана с его сознанием, замыслами, проектами, активной устремленностью в будущее, словом, его свободой, тогда как вещи пассивно подчиняются условиям своего бытия. В-третьих, нет никакой наперед заданной объективной сущности человека, идущей от природы, социума или от самого Господа Бога. Она «завоевывается» самим человеком (трус или герой), является кристаллизацией его существования. В-четвертых, нет и не может быть раз и навсегда «завоеванной» сущности, ибо трус может перестать быть трусом, равно как и герой — утратить свой героизм, ибо человек всегда в пути, в движении, изменении, динамике. Он свободно выбирает «закон своей жизни» и несет полную ответственность за то, кем он становится. Все эти простые истины представляют, так сказать, «облегченный вариант» экзистенциализма, который Сартр активно пропагандировал и добился-таки его широкой известности, тогда как «строгое учение», изложенное в довольно сложном трактате «Бытие и Ничто», осталось для большой аудитории «тайной за семью печатями», хотя он переиздавался десятки раз, но стал в основном предметом научных, философских и культурологических исследований профессионалов. Феноменологический метод. Перед началом философской деятельности Сартра Раймон Арон привлек его внимание к феноменологии Гуссерля, в которой Сартр увидел столь желанную возможность говорить о мире с точки зрения человеческого сознания и не впадать при этом в идеализм (в духе Беркли, Юма, махистов и др.), ибо весь мир находится «вне сознания», «трансцендентен ему». Со времен обучения в Сорбонне Сартр настроился резко против «университетского идеализма» (Брюнсвика, Лаланда, Мейерсона), доказывая в полемике с ними, что вещи существуют «вне сознания», и презрительно называл их идеализм и спиритуализм «пищеварительной философией» Духа-паука, который увлекал вещи в свою паутину, медленно их переваривал, превращая в «свою собственную субстанцию». В 1936 г. Сартр опубликовал работу «Трансцендентность Эго» (написана в 1934 г. по результатам стажировки в Берлине), в которой по-своему трактует идею «интенциональности сознания» Гуссерля, т. е. «направленности сознания на свой объект». Представьте себе, что вы заброшены в мир враждебный и опасный, говорит Сартр, не сводимый к вашему сознанию и не растворимый в нем, тогда вы схватите «глубокий смысл открытия» Гуссерля: всякое сознание есть сознание какой-либо вещи. Это означает, что «луч сознания» изначально направлен «вовне», а не на себя, в чем Сартр видит «несубстанциальность сознания» (против идеализма Декарта), а с нею избавление от идеализма. Нельзя, однако, думать, что он придерживается материалистических позиций, нет, не допустимо «растворять сознание в вещах» и детерминировать его вещами. Сартр считает себя «реалистом», который не теряет ни внешнего мира, ни свободы, суверенности сознания. Но при этом он не замечает, что идея интенциональности сама по себе не дает избавления от идеализма ни у Гуссерля, ни, как увидим ниже, у самого Сартра, который мог бы внимательнее читать «Картезианские размышления» немецкого мыслителя, вышедшие во Франции еще в 1928 г. В них Гуссерль совершенно ясно говорит о внешнем мире как коррелятивном сознанию, так что объекты суть предметы реального или возможного сознания и черпают «во мне самом весь смысл и всю экзистенциальную ценность». Вот на эту последнюю Сартр обращает особое внимание, ибо видит другую огромную заслугу Гуссерля в том, что он не сводит сознание о мире лишь к его познанию (гносеологическому типу интенциональности), но открывает возможности для эмоционального или духовно-нравственного отношения к миру. Скажем, это «дерево на горизонте» я могу не только познавать, но также и любить, и бояться, и ненавидеть. Сартр считает, что Гуссерль восстановил для нас «мир артистов и пророков с убежищем благодати и любви», более того, он вернул самим вещам ужас и очарование: лик японской маски ужасен сам по себе, а не в силу нашей субъективной реакции на кусок обработанного дерева. Знаменитые «субъективные реакции», которые М. Пруст всецело относил к «внутренней жизни субъекта, определяют лишь способ, благодаря которому мы открываем мир. Сартру важно утвердить реальность, экзистенциальных настроений» (заброшенность в мир равнодушный и враждебный, тоска, страх, тошнота и т. д.), а не полагать их лишь субъективной фантазией ипохондрика. Здесь уже можно видеть начало той экзистенциальной онтологии, которая будет развернута в «Бытии и Ничто», а «предтечей» ее можно считать отчужденный мир героя «Тошноты» Антуана Рокантена. Идею трансцендентности объекта сознания, ибо весьмир лежит «вне него», Сартр затрагивает также в статье «Фундаментальная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность» (1939). Усвоив феноменологический метод в теоретическом плане, он прежде всего применил его в психологии при анализе воображения и эмоций, посвятив им ряд сочинений: «Воображение» (1936), «Очерк теории эмоций» (1939), «Воображаемое. Феноменологическая психология воображения» (1940). Не отвергая эмпирической методологии при изучении психических явлений (идти от единичных фактов к общим сущностям), Сартр считает ее поверхностной, недостаточной и редукционистской (в смысле сведения сложного к простому, психического к биологическому, натуралистическому), тогда как необходимо изначальное и непосредственное постижение сущности психических актов в отличие от физиологических реакций, (на чем настаивал и Гуссерль, а раньше него Бергсон), их специфики в целостной структуре сознания, скажем, эмоции в отличие от воображения, что с успехом достигается посредством феноменологического метода. Однако конкретное объяснение, например, эмоций у Сартра является не столько феноменологическим, сколько экзистенциальным: эмоции страха, тоски, тревоги, разочарования и т. д. есть «магическая комедия бессилия» человека перед лицом мира, или просто бегства от мира». Точно так же в духе отчуждения сознания от реальности трактуются им образы воображения, которые уводят человека в «ирреальный, несуществующий мир», своеобразное «ничто» по сравнению с «Плотным миром вещей». Наконец, в «Бытии и Ничто» Сартр в своем ключе разрабатывает феноменологический метод (поправляя «самого Гуссерля») и приспосабливает его для нужд экзистенциально-феноменологической онтологии. Прежде всего он усматривает «прогресс современной мысли» в том, что с помощью идеи феномена удалось освободиться от дуализма внутреннего и внешнего, имманентного и трансцендентного, явления и сущности, сведя существующее к «монизму феноменов», его заменивших. Феномен в отличие от явления, скрывающего «позади себя» какую-то сущность (Кант), указывает «сам на себя», без посредников себя открывает нашему сознанию, «он и есть сущность, которая не заключена в объекте, но есть смысл объекта» (2: 12, 15). Снова, как и в «Трансцендентности Эго», Сартр спешит избежать упреков в берклианском идеализме, прибегая к идее интенциональности: «Всякое сознание есть сознание какой-нибудь вещи, это означает, что трансцендентности есть основная структура сознания, т. е. сознание рождает значение бытия, которым оно не является. Это то, что мы называем онтологическим доказательством» (1: 28). Речь идет о доказательстве существования внешнего мира и опять же об избавлении от идеализма. Он критикует и Гуссерля за привнесение идеализма в связи с «вынесением мира за скобки», считая эту операцию бессмысленной, ибо внешний мир нам всегда «уже дан» до всякой рефлексии в так называемом «дорефлексивном cogito», непосредственном знании о мире (я знаю стол, Петра и т. д.), направленном «вовне», а не на сознание, потому не субстанциональном и первичном по отношению к «рефлексивному cogito», направленному на сознание о вещах или на само сознание. Есть у него еще один аргумент против идеализма: «трансфеноменальность бытия», т. е. несводимость к сознанию, к феномену бытия. Однако следует отметить, что все «аргументы» Сартра против идеализма являются скорее декларациями, нежели доказательствами. Во-первых, интенциональность сознания отнюдь не утверждает «транс-цендентный объект», как на этом настаивает Сартр, а напротив, имеет в виду имманентный сознанию предмет, о чем и Гуссерль говорил, борясь против «молоха трансцендентного» и разрабатывая метод «феноменологической редукции». Во-вторых, «дорефлексивное cogito» остается все-таки cogito, недаром ключевое понятие «Бытия и Ничто» — именно cogito. В-третьих, о «трансфеноменальном бытии» у Сартра нет речи, а бытие представлено именно как феноменальное, будь то внешний мир или «бытие самого сознания». Желание избавиться от идеализма, чуть ли не «экзальтированное желание» (чтобы не сказать «истерическое») порождено «книжным опытом» с раннего детства: «Платоник в силу обстоятельств, я шел от знания к предмету: идея казалась мне материальней самой вещи, потому что первой давалась мне в руки и давалась как сама вещь... хаотичность моего книжного опыта я путал с прихотливым течением реальных событий. Вот откуда взялся во мне тот идеализм, на борьбу с которым я ухлопал три десятилетия» (4: 387). Скажем заранее, что избавиться от идеализма Сартру так и не удалось во все периоды своего творчества. Экзистенциально-феноменологическая онтология. В отличие от традиционного учения о бытии, или о сущем вообще, Сартр «выстраивает» конкретную онтологию, или учение о человеческом существовании, при этом заимствует у Хайдеггера один из «экзистенциалов» — «бытие-в-мире», трансформированное затем в «бытие-в-ситуации». Основные структуры экзистенциальной онтологии — В-себе-бытие (внешний мир) и Для-себя-бытие (человеческое сознание). Сартр ставит вопрос: «Каковы должны быть человек и мир, чтобы отношение между ними было возможным?» (1: 38). Этот вопрос «таит» в себе другой вопрос: «Каковы должны быть человек и мир, чтобы свобода человека была возможной?» Феноменологическое описание этих двух регионов бытия, во-первых, исходит не просто из противоположности, но из противостояния. Во-вторых, это описание должно быть непосредственным: «Бытие нам раскроется некоторым непосредственным образом, через скуку, тошноту и т. д., и онтология будет описанием феномена бытия, как он себя обнаруживает, т. е. без посредника» (2: 14). Вместо гносеологического отношения к миру Сартра интересуют «экзистенциальные переживания», эмоциональные реакции на окружающее, «личностные смыслы», нравственные оценки и т.д. Сознание субъекта заполнено уникально-субъективным содержанием, так что cogito у Сартра отличается от картезианского и не имеет рационалистического характера. Сознание «не мыслит» мир, а феноменологически воспринимает его как нечто чуждое, противоположное себе, лишенное смысла, абсурдное, случайное, вызывающее «тошноту» и «головокружение» у героев сартровских романов. В-себе — внешний мир, плотно-материальное бытие, характеристику которого Сартр исчерпывает тремя тезисами: «Бытие есть. Бытие есть в себе; Бытие есть то, что оно есть» (1: 34). Первый тезис фиксирует простую, беспредпосылочную наличность бытия, его фактичность. Второй тезис отвергает наличие в нем каких бы то ни было телеологических структур, ибо мир существует без смысла и цели и потому случаен и абсурден. Наконец, третий тезис означает, что бытие абсолютно тождественно самому себе, плотность его бесконечна. Оно не пассивно, не активно, не допускает ни малейшего раздвоения с самим собой, не заключает никакого отрицания, в нем нет тайны. Оно не знает изменения, ибо никогда не полагает себя как другое. В нем нет ни пустоты, ни «трещины», через которые в него могло бы проникнуть ничто. «Пе-реходы, становление, все то, что позволяет сказать, что бытие не есть еще то, чем оно будет, и что оно есть уже то, что оно не есть, во всем этом ему отказано в принципе» (1: 33). Но если оно лишено всякого изменения и развития, то оно лишено и времени, поэтому у него нет ни прошлого, ни будущего. Бытие просто есть, вот и все. В-себе — царство антидиалектики, ибо вслед за Гегелем в принципе идентичности Сартр видит «принцип непротиворечивости». «Отрицание... появляется на поверхности бытия через человеческую реальность, а не через собственную диалектику в самом бытии» (1: 119). Такое толкование бытия напоминает умопостигаемое бытие Парменида: это жизненное бытие у Сартра есть просто «условие обнаружения» истинного бытия, или «подлинного существования», которое есть Для-себя. В-себе определяется лишь отрицательно, через отсутствие всех тех качеств, которыми в избытке обладает Для-себя: саморазвитие, внутренние импульсы к изменению, творчество, изобретение и т. д. Качественную характеристику В-себе получает только через Для-себя: «В этом смысле всякое позитивное определение бытия есть антитеза онтологического определения Для-себя в его бытии как чистой отрицательности» (1: 228). Единственной функцией В-себе является пассивное ожидание творческой мощи человека. Подобная трактовка В-себе и Для-себя весьма напоминает диалектику Я и не-Я в философии Фихте. Для-себя — человеческая реальность, человек как сознание, cogito. Сознание есть «ничто», ибо, во-первых, весь мир находится вне него, а, во-вторых, оно есть антипод В-себе-бытия и по способу существования и по своим характеристикам. Если В-себе подчиняется принципу идентичности, или непротиворечивости, то Для-себя — принципу противоречивости, антиномичности. Сартр выражает это формулой: «Для-себя всегда есть то, что оно не есть, и не есть то, что оно есть». Онтологическим выражением принципа противоречивости сознания является как бы «присутствие с самим собой», «несовпадение с собой», что означает деградацию идентичности, т. е. самораздвоение, будь то в акте рефлексии или отрицании своего прошлого и настоящего, «подглядывании за собой», «вопрошании о себе» и т. д., до бесконечности. Для-себя находится в состоянии вечной подвижности, текучести, становления, изменчивости. Поэтому время как «символ изменения» составляет существенную структуру Для-себя и понимается антропоморфически и психологически как прошлое, настоящее и будущее человеческой жизни. Человек в своем бытии как бы «линяет», сбрасывает свою «старую кожу», ускользая от своего прошлого, уже «ставшего бытия», и устремляясь в будущее. Особую роль при этом играет отрицание, одно из ключевых понятий «Бытия и Ничто», с которым тесно связана проблема небытия (neant). Сартр утверждает онтологическую вторичность небытия по отношению к бытию. В свою очередь «небытие обосновывает отрицание как акт, ибо оно есть отрицание как бытие» (1: 54). Он отвергает гегелевскую диалектику бытия и ничто, их логическую одновременность, имманентное взаимопроникновение, ибо в таком случае нарушается приоритет бытия над небытием. Этот приоритет настолько «мощен», что «всеобщее исчезновение бытия не могло бы породить господства царства небытия, но, напротив, привело бы к его полному исчезновению: небытие может существовать лишь на поверхности бытия» (1: 52). Сартр настаивает также на онтологическом приоритете В-себе над Для-себя, как бытия над небытием-ничто. Но поскольку В-себе не может порождать никакого небытия, постольку оно не может быть — при всем его приоритете! — источником Для-себя, которое онтологически также не может порождать В-себе, зато гносеологически оно тотально его конституирует, т. е. придает ему только то значение и тот смысл, который его «душе угоден». Если онтологически В-себе и Для-себя не могут порождать друг друга, а по своим характеристикам являются антиподами, то при всем «механизме феномена» феноменологическое их описание у Сартра снова оборачивается их своеобразным дуализмом. Так в «силках противоречий» бьется мысль философа, избежать которых ему так же сложно, как проплыть между Сциллой и Харибдой. Если небытие не может родиться в лоне В-себе, то остается один его источник — Для-себя, которое само есть небытие, ничто, «дыра в бытие» и обладает «магической способностью» вводить небытие в мир через отрицание (самого себя, окружающего, других людей и т. д.), которое играет в онтологии Сартра фундаментальную роль. Чтобы плотное аморфное В-себе приобрело инструментальную для человека организованность, необходимо через отрицание одного и утверждение другого «разделять и распределять большие массы бытия» на различные комплексы и отдельные вещи. Когда нечто интересует человека, то «луч сознания» высвечивает его из остальной массы бытия, которая подвергается «неантизации», т. е. погружается в небытие. Скажем, Пьер в кафе, с которым назначена встреча, «выхватывается сознанием» из общего фона, все остальное кафе погружается в небытие, которое сугубо относительно и антропологически осмысленно: «Очевидно, что небытие всегда появляется в границах человеческого ожидания» (1: 41) и сопровождается разными экзистенциальными состояниями: страхом, отвращением, разочарованием, тоской, но и надеждой, радостью, уверенностью и т. д. Вот почему Сартр говорит, что небытие «расцвечивает мир, отливая цветами радуги на вещах» (1: 60). Но более верно сравнить его с черной краской на холсте художника, без которой все предметы на нем слились бы в одну аморфную массу. Продуцирование небытия сознанием не есть его реальное порождение, но важнейший элемент конституирования человеческого мира через отрицание, это способ видения мира, мироощущение. Бытие дано, его нельзя уничтожить, можно лишь изменить к нему отношение, т. е. уметь поставить себя вне бытия — не вне бытия вообще (это невозможно, ибо сознание есть всегда сознание какой-либо вещи), а вне какого-то конкретного бытия. Итак, во-первых, отрицание носит феноменологический и антропоморфический характер. Во-вторых, отрицание не есть атрибут развития, как у Гегеля, а «принцип организации» человеческого бытия. В-третьих, отрицание осуществляет связь между В-себе и Для-себя. Человек сначала «покоится в ложе бытия», а затем выделяется из него, осознавая его как нечто чуждое себе, как «все то, чем оно не является». Отсюда «первоначальное отношение к миру есть радикальное отрицание» (1: 230). Но и любое другое отношение к миру также связано с отрицанием. Поскольку мир воспринимается сознанием как абсурдный, лишенный смысла и цели, а посему непредсказуемый, опасный и враждебный, постольку фундаментальное отношение к нему — отчуждение, которое распространяется и на мир других людей, где конфликт и ненависть куда более распространены, чем любовь и гармония. Исследуя феномен любви, Сартр больше говорит о садизме и мазохизме, нежели о радостях любви. «Жаровен не надо. Ад — это другие», — говорится в пьесе «За запертой дверью». И все-таки Для-себя с его неустойчивостью и непостоянством как бы «завидует» стабильности и полноте бытия В-себе и хотело бы их обрести, став единством В-себе-для-себя, со всей полнотой их характеристик. Если бы это было возможно, говорит Сартр, то человек стал бы Богом, но, увы, этот«Абсолют» недостижим, да и Бога-то нет. «Основной проект человека» — стать чем-то значительным, постоянным, достичь «полноты бытия», а в действительности человек не является «ничем особенным», ибо «терпит фиаско» в своей жизни: «Человеческая реальность есть страдание в своем бытии. Она — по природе несчастное сознание, без возможности преодолеть несчастное состояние» (2: 134). Один из американских сартроведов назвал свою книгу, посвященную «Бытию и Ничто», «Трагический финал» (1960), что вполне отражает основное «умонастроение» этой книги. Абсолютная свобода. Отрицание в экзистенциальной онтологии выполняет еще одну, едва ли не важнейшую функцию: обеспечивает человеку свободу во враждебном мире. «Отрицание привело нас к свободе» (1:115) — безапелляционно заявляет Сартр и развивает в «Бытии и Ничто» свою знаменитую концепцию «абсолютной свободы». Он не вполне адекватно считает, что подобное понимание свободы было уже в древности у стоиков (абсолютная духовная свобода), а затем в Новое время у Декарта (абсолютная свобода мысли). Как «никто не может умереть за меня» (Хайдеггер), так «никто не может помыслить за меня» (Декарт). В конце концов, надо сказать да или нет и «одному решить об истине всего Универсума», интерпретирует Декарта Сартр в статье «Картезианская свобода», предваряющей издание текстов из сочинений Декарта в 1946 г. В ней философ дает такую формулу свободы: «Быть свободным не означает добиться того, чего хотят, но хотеть того, что можно», ибо если нельзя реализовать то или иное действие, то можно воздержаться от желания его осуществить. Способность отрицания тех или иных проектов неограниченно расширяет сферу наших возможностей, о чем и свидетельствует «абсолютная свобода». В «Бытии и Ничто» Сартр отличает свое «философское» понимание свободы от «обыкновенного» («добиться того, чего хотят») и дает ее дефиницию: свобода означает «автономность выбора, т. е. независимость его от каузальных связей мира». Речь идет о духовной, внутренней свободе, свободе сознания, «поэтому успех ничего не значит для свободы». Свобода — это способ бытия сознания, его коренная сущность, отсюда сознание должно быть сознанием свободы. Поскольку сознанием одарен каждый человек от природы, постольку свобода есть универсальное онтологическое свойство человека. Вот почему Сартр настаивает на том, что «человек не мог бы быть то свободным, то рабом: он всегда и полностью свободен или он не существует» (1:516). Отрицая «степени свободы» и ступени ее реализации, он утверждает ее абсолютную и безусловную данность как сущность духа и сознания. Свободное сознание не знает иной мотивации, кроме самого себя: «Иначе надо было бы предположить, что действующее сознание себя не сознает» (1: 22). Отсюда Сартр составляет резкую оппозицию Фрейду, у которого сознание детерминируется бессознательным. Претендуя на «философию конкретного», философ помещает свободу в ситуацию. Речь идет о соотношении конкретного автономного выбора и «фактичности», «данного». Прежде всего Сартр спешит объявить, что никакая ситуация не может детерминировать свободу, она не является ни «причиной», ни «условием», ни «основанием» свободы, но лишь конкретным фоном для человеческих проектов: одни проблемы у раба, другие — у господина, третьи — у буржуа, четвертые — у рабочего и т. д.: «Коэффициент враждебности вещей не может быть аргументом против нашей свободы, ибо именно благодаря нам, т. е. через предварительное полагание цели, он и возникает» (1: 562). Приведем знаменитый пример Сартра со скалой, которая в зависимо-сти от нашего проекта («передвинуть» ее или обозреть с нее прекрасный пейзаж) будет выступать либо в качестве непреодолимого препятствия, либо превосходного средства реализации нашего выбора. В любой ситуации — через отрицание неугодных или невозможных выборов — мы можем отстоять суверенность нашего сознания, т. е. «абсолютную свободу». Исходя из этого Сартр делает следующие выводы: 1) «нет ситуации, в которой данное своей тяжестью могло бы задушить свободу»; 2) нет ситуации, в которой Для-себя было бы более свободно, чем в других ситуациях» (1: 634). Формула человека в соответствии с принципом субъективности: «Человек есть то, что он сам из себя делает». Человек — это causa sui. Из «абсолютной свободы» логически следует «абсолютная ответственность» за себя и за все, что совершается в мире. «Человек несет тяжесть всего мира на своих плечах», говорит Сартр. У него есть на первый взгляд абсурдная мысль: «Никогда мы не были более свободными, чем во время немецкой оккупации Франции», но если мы в ней заменим только одно слово, она приобретает свой глубокий смысл: «Никогда мы не были более ответственными, чем во время немецкой оккупации Франции», ибо тогда каждый француз должен был решить: сотрудничать с немцами или примкнуть к движению Сопротивления. Во многом сама идея «абсолютной свободы» возникла у него в период нацистской угрозы, которой надо было сказать «нет». Отсюда акцент на отрицательной свободе, независимости от любой враждебной ситуации, любой тяжкой необходимости. Вполне логично Сартр не принимает известную дефиницию «Свобода есть познанная необходимость». Скорее для него «свобода есть преодоленная необходимость». Хотя у него нет этой формулы, но она вполне отражает его трактовку соотношения свободы и необходимости. В человеческом бытии, считает Сартр, не является существенным принцип каузальности, ибо в нем «детерминизм возникает в основе проекта — Будущее есть детерминирующее бытие...» (1: 170, 172). Из всех временных измерений человек более влечется к будущему, нежели «оседает» в прошлом или настоящем. Этот психологический феномен отмечал еще Паскаль, говоря, что «мы не живем, а только собираемся жить». Но у Сартра этот «психологический курьез» есть необходимый элемент экзистенциалистского видения человека как «субъекта неограниченных возможностей», а не как «объекта убогой действительности». Существование и в этом смысле «предшествует сущности», поэтому в человеческой реальности вместо закона причинности действует принцип «превращенной каузальности»: доминирующей причиной оказывается не то, что есть, а «то, чего еще нет», что выступает в качестве возможности в будущем. При всем многообразии проблем в «Бытии и Ничто» (здесь и проблемы диалектики В-себе и Для-себя, и скрупулезный анализ Временности, и проблемы отчуждения, межличностных отношений с Другими и др.) в этом трактате Сартр выступает прежде всего как «певец свободы», озабоченный отстоять свободу человека «во что бы то ни стало», в любой ситуации. И все же один вопрос «мучил» его и на последней странице он его поставил: «Может ли свобода, которая является самоцелью, избежать любой ситуации или же, напротив, она зависит от нее?» (2: 722). Он положительно ответит на него в «Критике диалектического разума» и продемонстрирует эволюцию своих взглядов под влиянием К. Маркса. Еще одну «слабину» своей концепции «абсолютной свободы» чувствовал сам Сартр: «крен» в сторону отрицательной «свободы от» и неразработанность положительной «свободы для». Он исправит и этот «дефект» своей концепции в послевоенные годы. Однако при всех своих не-достатках и «уязвимости» для критики концепция «абсолютной свободы» поставила ряд реальных проблем духовной свободы человека: 1) отрицание и преодоление «враждебной фактичности», 2) вечный поиск и устремленность в будущее, 3) творческие искания в момент выбора, 4) моральная честность при выборе, 5) глубокая личная ответственность за свой выбор. Послевоенная эволюция. С «Капиталом» Маркса и «Немецкой идеологией» Сартр познакомился еще в период учебы в Сорбонне, но это чтение совершенно не изменило его. Сознательное усвоение марксизма началось после войны и, по его субъективному убеждению, за 10 лет он был «приведен от экзистенциализма к марксизму», все надо было «передумать в свете марксизма», поэтому он написал «Критику диалектического разума» (1960). Далее эта однозначная оценка уточняется, конкретизируется и оказывается весьма противоречивой. Сартр не может быть «просто марксистом», ибо он согласен с «самим Марксом» и резко противостоит «современному марксизму», обвиняя его и в «предательстве революции» и в «стагнации теоретической мысли», чего не было у Маркса. Кроме того, он принимает исторический материализм Маркса и отвергает диалектический материализм Энгельса, считая его «диалектику природы» «незаконной экстраполяцией» социальной диалектики Маркса, ибо еще в «Бытии и Ничто» Сартр обосновывал невозможность диалектики в Бытии-в-себе: диалектика может быть присуща только человеческой реальности. «Проблемы метода» (1957) предваряют «Критику диалектического разума», а затем входят в нее целиком, и посвящены критике марксизма и попытке «дополнить» марксизм рядом «посредствующих звеньев». Сартр высоко ценит «открытия Маркса» и его конкретные социально-исторические исследования, особенно «18 брюмера Луи Бонапарта»: «Марксизм — это не только грандиозная попытка созидания истории... это и попытка овладеть историей практически и теоретически...» «Он остается философией нашего времени: его невозможно преодолеть, потому что еще не преодолены породившие его обстоятельства» (6: 110, 36). Что же касается экзистенциализма, то теперь он называет его «паразитической системой», «идеологией», противостоящей знанию (Кьеркегор), а сейчас пытающейся интегрироваться в него (Ясперс). Но свой экзистенциализм он не считает таковым, ибо он «развился на границе марксизма, а не в противоборстве с ним» (6: 9, 20). Если «всякий иной» экзистенциализм «претерпевает закат», то «свой, родной, сартровский» имеет радужные перспективы в «синтезе с марксизмом». Сартр видит в «ключевом понятии» praxis у Маркса фундамент для своей нынешней трактовки человека и истории, ибо «люди делают свою историю сами, но на базе предшествующих обстоятельств» — это открытие более не может быть поставлено под вопрос. Оно импонирует философу, испытавшему опыт войны и постигшему не только «силу разума», но и «силу вещей», желающему понять конкретного человека как активного деятеля, творца истории. Сартр изменил свою «формулу человека»: он сейчас не «чистая causa sui», но есть то, «что он сумеет сделать из того, что сделали из него» (6: 112). Согласен он с Марксом и в том, что «труд определяет человека», опосредует его отношения с миром, природой и другими людьми, являясь «реальной основой организации социальных отношений». И это открытие тоже больше не может быть поставлено под вопрос (2: 1, 225). Трудовая деятельность осуществляется через «синтезы обработанной материи» (техника, инструменты, орудия труда как «овеществленный труд предшествующих поколений»).«Инертная целостность материи» как «социальная память всех» обеспечивает «преодоление каждой исторической ситуации во всеобщем процессе истории» (2: 1, 200). «Сила инерции материи» может преподносить активным творцам истории «свои сюрпризы» в виде результатов, которые не ожидались, что Сартр выражает понятием «контр-финальности» (контр-конечной цели), т. е. цели, реализуемой «без автора». Этим он хочет подчеркнуть объективный ход исторического процесса и заявляет об этом в своем духе: «исторический закон кончает тем, что избегает всех» (2: 1, 133). Выступая против «робинзонады» в истории, он большое внимание уделяет «теории практических ансамблей», выделяя активные объединения — группы, пассивные «коллективы и серии» (как «молекулы воска скреплены печатью») и классы, которые могут быть и активными и пассивными. Чем более цели и задачи объединения «прозрачны», понятны конкретным деятелям, тем они активнее, тогда как в «бюрократизированных объединениях» активность деятелей резко падает (таковы современные Коммунистические партии, по оценке Сартра). Класс, не осознавший себя «как класс», испытывает «инертную практику» (pratico-inerte в отличие от praxis), которая есть его необходимость и судьба, отчуждение и бесчеловечность. Соглашаясь с марксистскими положениями о роли базиса в обществе, конфликте производительных сил и производственных отношений, классовой борьбе как «моторе истории», «опредмечивании и распредмечивании» практики и т. д., Сартр как экзистенциалист уделяет особое внимание «конкретному человеку» с его переживаниями, сознанием и свободой. Он признает теперь и социальные детерминации личности, и «предсозданное бытие человека», т. е. его «априорную сущность» как представителя того или иного класса (2: 1, 289, 294), но по-прежнему человек им определяется через «проект» (с учетом инструментальных возможностей, материальных условий), а главное — через «преодоление ситуаций» (в труде, действиях, поступках, борьбе за свободу), Он осознал ущербность «отрицательной свободы» и стал говорить о положительной свободе как «логике творческого действия» (2: 1, 156). Естественно, что свободной он считает praxis, a не pratico-inerte. И теперь он называет «экзистенцией не устойчивую, покоящуюся в себе субстанцию, а постоянную потерю равновесия» «преодоление самих себя всеми силами» (6: 186). Однако «современный ленивый марксизм», по мнению Сартра, застывший в абстрактных схемах «макроанализа» социальных движений, классов, коллективов и других «крупных форм», не хочет видеть за ними «конкретных реальных людей», превращая их в «символы своих мифов» или делая предметом «абсурдной павловской психологии». Он ссылается на Г. Лукача, который не смог понять ни философию, ни личность Хайдеггера, пытаясь «втиснуть его в заранее отлитые формы», не удосужившись ни прочитать, ни вникнуть в их смысл. Между прочим, сам же Лукач, иронизирует Сартр, называл эту марксистскую «псевдофилософию волюнтаристским идеализмом» (6: 66, 103, 46, 33). Марксисты считают свои «абстрактные схемы», полагает Сартр, уже готовым знанием истории, тогда как его еще предстоит создать. Марксистский макроанализ он хочет дополнить экзистенциальным «микроанализом» семьи, малых групп, конкретных людей, словом, «экзистенциальных измерений бытия». Для этого он предлагает «систему посредствующих звеньев»: 1) социально-исторический метод Анри Лефевра с фазой феноменологического описания; 2) конкретный социологический анализ; 3) экзистенциальный психоана-лиз детского возраста (в отличие от сексуальных абсолютизаций Фрейда), который Сартр продемонстрировал в повести «Слова»; 4) прогрессивно-регрессивный метод «понимания» практики реальных деятелей с восходящим движением от настоящего к будущему, а затем нисходящим движением от будущего к настоящему и прошлому, выявляя как конечные цели и результаты действия, так и все его первоначальные условия. Успех «понимания» практики другого зависит и от «степени соучастия» в ней, и от усмотрения «внутренних пружин» человеческих мыслей, чувств и действий. Он отличает «понимание» как от интеллектуализма Абсолютного знания, так и от иррационализма в духе Кьеркегора. При всей сложности, неоднозначности и противоречивости послевоенного мировоззрения Сартра, можно констатировать определенную эволюцию его экзистенциализма под влиянием Маркса. От философии cogito в «Бытии и Ничто» он переходит к философии практики в «Критике диалектического разума», от человека causa sui — к социально детерминированной личности, от «абсолютной отрицательной свободы» к положительной свободе творческого действия, от чисто феноменологического метода — к разнообразию приемов исследования человеческой реальности, от дуализма В-себе и Для-себя — к их синтезу в praxis, от абсурдистской трактовки окружающего мира — к обретению его смысла через историческое действие, от резкого отчуждения между людьми — к утверждению их солидарности в борьбе за социальную справедливость, демократию и свободу. И все же Сартр остался своеобразным экзистенциалистом с его культом суверенной личности, воинствующим гуманизмом, акцентом на «преодолении ситуации» через «проект», отрицании раз и навсегда данной сущности человека. Так что в этом смысле он не отказался от формулы: «Существование предшествует сущности». Литература1.Sartre J. P. L'Etre et le Neant. P., 1948. 2.Sartre J. P. Critique de la raison dialectique, T. 1, P., 1960 3.Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. М., 2000. 4.Сартр Ж.-П. Стена («Тошнота», «Мухи», «Слова» и др.). М., 1992 5.Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов, М., 1989. 6.Сартр Ж.-П. Проблемы метода («Марксизм и экзистенциализм» и др.) М., 1994. 7.Т.Кузнецов В. Н. Сартр и экзистенциализм. М., 1969. 8.Стрельцова Г. Я. Критика экзистенциалистской концепции диалектики (Анализ философских взглядов Ж.-П. Сартра). М., 1974. 9.Филиппов Л. И. Философская антропология Сартра, М., 1977. 10.Киссель М. А. Философская эволюция Сартра. K., 1976. Глава 17. РАССЕЛ Бертран Рассел родился в 1872 г. в семье старинного аристократического рода Великобритании. Внук премьер-министра Великобритании Джона Рассела, крестник Милля, с отличием закончил Кембридж, имел титул лорда и прожил почти сто лет — он умер в 1970 г., — приняв участие в наиболее острых философских битвах ХХ в.: по проблемам математики и логики, по вопросам методологии научного знания и языка науки, по проблемам атеизма и современного свободомыслия, по поводу ангажированности интеллектуалов в политической жизни (последний раз он оказался в тюрьме в возрасте 89 лет за участие в митинге за ядерное разоружение), наконец, по современной интерпретации истории философии. В 1949 г. он получил орден «За заслуги» Соединенного королевства, а в 1950 г. — Нобелевскую премию по литературе. Он выступил как яркий популяризатор философии и светского философского мышления, чьи идеи актуальны и по настоящий день. Его имя связывается прежде всего с идеями логического позитивизма, который возникает после Первой мировой войны и обозначает ориентацию на логические методы обоснования науки. Первоначально этим термином обозначается деятельность Венского кружка (М. Шлик, О. Нейрат, Р. Карнап и др.), затем к этому направлению были отнесены и А. Д. Айер, и сам Рассел как основоположник его разновидности — логического атомизма. Для британской философской мысли было характерно критическое отношение к традиционной философии, которое основывалось на анализе обыденного языка и проблематизации самого процесса познания. Б. Рассел и А. Уайтхед в фундаментальной работе по математической логике «Principia Mathematica» (1910— 1913) систематизировали формальные логические методы. Логицизм, предложенный Расселом и Уайтхедом в этой работе, не только определил дальнейшее развитие математической логики, но и ответил на оставшиеся без ответа вопросы, поднятые кризисом в математике XIX века, связанным с экспериментальным характером Евклидовой геометрии и арифметики числа. Самые острые проблемы были сняты созданием Г. Кантором (1845— 1918) теории множеств и введением в 1889 г. принципов аксиоматизации арифметики Дж. Пеано. Однако оставались проблемы, в том числе и связанные с парадоксами в математике. Логицизм предположил жесткую аксиоматическую зависимость арифметики от формальной логики, прежде всего от пропозиционального исчисления, кроме того, в этой работе Рассел предложил теорию типов — специфичную иерархию логических понятий, — устранявшую целый ряд парадоксов, в том числе и так называемый парадокс Рассела. Его юмористичная формулировка звучит как парадокс «Брадобрей» и отчасти напоминает известный еще в Античности парадокс лжеца (критянин Эпименид говорит, что все критяне — лжецы) : брадобрей бреет всех техи только тех в горном (т. е. изолированном) поселке, кто не бреет себя сам, — соответственно, он должен и не должен брить самого себя. Множество, если следовать сформулированному определению, должно и не должно включать себя как элемент этого множества — логические антиномии возникают из-за небрежности словоупотребления — их разрешением должно быть соблюдение принципов теории типов. При утверждении обо всех случаях определенного вида следует ограничить возможные значения аргумента (по типам: аргументы индивидуального порядка, аргументы, обозначающие свойства индивидуумов, аргументы, обозначающие свойства свойств индивидуумов и так далее). Тогда вывод о новом случае — принадлежит он или не принадлежит обозначенному множеству — не будет противоречивым. Эти конкретные решения, предложенные Расселом, неоднократно подвергались критике: так, например, Гёдель сформулировал идею о существенной неполноте аксиоматических систем арифметики и теории множеств — это означает, что в этих системах нет средств для того, чтобы доказать те утверждения, которые эта система формулирует. Формализм Д. Гильберта, исходивший из того, что целый ряд понятий в арифметике необходим для изложения самих логических законов, опроверг возможность аксиоматизации арифметики на основе единственной логики и ввел критерии аксиоматических формальных систем вывода — непротиворечивость, полнота и независимость. Сам Рассел задавался вопросами, связанными с аксиомами существования, например, аксиомой о бесконечности предметной области логики. Не случайно, что мы можем встретить противоречивые интерпретации окончательных суждений Рассела о существовании математических объектов и т. д. Рассел считал, что философия, вооружившись средствами математической логики, может анализировать возможности логического конструирования мира из чувственных данных. Для этого принципиальное значение имеет логическая форма языка. Предложенная Расселом в «Principia Mathematica» теория дескрипций различала непосредственное обозначение предмета или лица (имена собственные) и описание, характеризующее предмет по его свойствам, т. е. в отрыве от предмета (дескрипции, которые являются в этом смысле неполными символами). Так, предложения, содержащие одни дескрипции, не предполагают существования предмета. Значение, таким образом, приобретается в соединении обозначений. Идея особого места пропозиции стала основой более широкой философской концепции Рассела — логического атомизма. И именно эта идея подтолкнула Л. Витгенштейна к созданию «Логико-философского трактата». В ее основе лежит представление о том, что язык и действительность взаимно однозначно соответствуют друг другу, важно только правильно употреблять соответствующие обозначающие выражения. Именно предложение корреспондирует с миром. Атомарное предложение изоморфно атомарному факту. Это означает, что оно указывает, имеет ли определенный предмет определенное свойство. Молекулярное предложение содержит в качестве частей атомарные предложения, и его истинность складывается из истинности составляющих его частей. Истинность понимается как значение — вслед за Г. Фреге и согласно еще лейбницевскому принципу субституции, — тождественными считаются вещи, которые могут взаимно заменять (субституировать) друг друга, причем истина останется неизменной (классический пример: одно значение восхода Венеры по-разному выражено и имеет разные смыслы в выражениях «восходит Утренняя звезда» и «восходит вечерняя звезда»).Пропозициональная функция задает структуру частей предложения: какое-либо высказывание, содержащее в себе несколько неопределенных составляющих, становится предложением, как только неопределенные составляющие определяются. В статье «Об обозначении» (1905) Рассел рассматривает три случая обозначения: выражение может быть обозначением, ничего не обозначая, например, «нынешний король Франции»; выражение может обозначать определенный объект, например, «нынешняя королева Великобритании»; выражение может обозначать нечто неопределенное, например, «мужчина». Анализ предложения призван сделать предложения логически прозрачными — свести, если это возможно, к тому, с чем мы непосредственно знакомы. Аналитическая работа, которая станет основополагающим методом аналитической философии, таким образом, — это работа по логическому прояснению предложений. Для этого принципиальным становится различение Расселом знания-знакомства и знания по описанию, о котором он пишет в работе «Проблемы философии» (1912). Под «знанием-знакомством» Рассел понимает непосредственное знание, т. е. чувственные данные, а также универсалии, или общие идеи о качествах и отношениях. Рассел отличает «знание-знакомство» от ощущений и самого акта чувственного восприятия. По мысли исследователей, это важное замечание, поскольку предлагает понимать под сознанием именно эту способность быть знакомым с тем, что не зависит от него. Именно поэтому его позицию относили к реализму, на что Рассел в статье «Логический атомизм» заметил, что фундаментальной в концепции является логика. Согласно этой аргументации, объекты науки конструируются из чувственных данных (позже Рассел введет специальный термин «сенсибилии», чтобы отделить чувственные данные, а также объект сознания от данного чьего-либо сознания): «высшая максима научного философствования такова: где возможно, на место выводимых сущностей должны подставляться логические конструкции». Знание «по описанию» — знание выводное, т. е. оно основывается на первом. Как писал еще Юм, чтобы проверить значение идеи, надо спросить, от какого впечатления она происходит, правда, он не включал универсалии в свое понимание впечатлений. Именно знание «по описанию» представляет нам физические предметы, сознание, других людей — все это является совокупностью чувственных данных. Знание дается с помощью слов и выражений, поэтому вопрос об объективном существовании может быть решен только в рамках «знания-знакомства». Ссылаясь на гипотезу здравого смысла, одну из важных для нашего познания инстинктивных верований, Рассел утверждает, что проще и лучше объясняет нашу жизнь убеждение в том, что вещи существуют объективно. Д. Э. Мур называл это исходным уровнем познавательной деятельности, осведомленностью. Но, как пишет Рассел в работе «Мистицизм и логика» (1917), это не означает субъективности знания как такового, отличая каузальную зависимость от органов чувств, нервов и мозга. Во многом под влиянием Витгенштейна и пытаясь противостоять английскому неогегельянскому монизму, Рассел излагает плюралистический взгляд в «Философии логического атомизма» (1918). Подхватывая махистские рассуждения о функциональном различении психического и физического, Рассел в «Анализе духа» (1921) отмечает, что «...и дух, и материальный предмет как логические конструкции... образованны из материалов, которые существенно не различаются, а иногда действительно тождественны».Везде Рассел подчеркивал, что объект физической науки отличается от чувственных данных, хотя верифицируется на их основании. Специально этому посвящена работа «Анализ материи» (1927), где Рассел, скептически оценивая достижения какой-то одной методологической позиции, предлагает истолковывать физику «способом, тяготеющим к идеализму», а восприятие — «способом, тяготеющим к материализму». Эта скептическая позиция окончательно была сформулирована Расселом в своеобразном итоге — «Моя философская биография» (1959): «Что я утверждаю, так это то, что мы можем видеть или наблюдать то, что происходит в наших головах, и что мы вообще не можем видеть или наблюдать что-либо еще...» При этом он выдвинул несколько постулатов научного вывода, внеопытных и внелогичных, построенных на основании здравого смысла, которые «предназначаются для создания предварительной вероятности, необходимой для оправдания индуктивных обобщений». Как это было заявлено еще в ранней работе «Проблемы философии», «ценность философии в действительности во многом необходимо искать в самой ее недостоверности» (1: 272). Следует отдельно сказать о расселовских атеистических работах: поздний вариант «Мистицизм и логика», «Внесла ли религия полезный вклад в цивилизацию? », «Религия и наука», «Почему я не христианин». Он был в гуще борьбы за свободомыслие. В 1940 году в Нью-Йорке он даже был арестован и лишен права преподавать в городском колледже за свои атеистические взгляды. В Лондоне это были живые дискуссии — с епископом Гором (1929), с историком-иезуитом Ф. Коплстоном (1948). Для Б. Рассела за религией стоит догматический способ мышления. Свою позицию он определяет как агностическую — делая акцент прежде всего на естественно-научном подходе к мировоззренческим проблемам. В этот ряд можно поставить и те главы «Истории западной философии» (1948), которые посвящены католической философии. По истории философии Расселом написано множество работ, как специальных (о философских концепциях Лейбница, Джеймса, Гегеля, Дьюи, Сантаяны, Милля, Витгенштейна и других) так и общих обзоров («История западной философии» и «Мудрость Запада. Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами»), которые сделали философию популярной во всем мире. Активная жизненная позиция Рассела распространялась прежде всего на те практические следствия философских концепций, которые проявляются в политике (не случайно, среди его ранних работ «Немецкая социал-демократия» (1896), переведенная затем на русский язык) и умонастроении обычных людей. Литература1.Рассел Б. Проблемы философии // Джеймс У. Введение в философию; Рассел Б. Проблемы философии. М., 2000. 2.Рассел Б. История западной философии. Т. 1 — 2. М., 1993. 3.Рассел Б. Искусство мыслить. М., 1999. 4.Рассел Б. Мудрость Запада. Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами. М., 1998. Глава 18. ВИТГЕНШТЕЙН Жизнь Витгенштейна, как и в случае с Кьеркегором, не представляется чем-то вторичным по отношению к его философскому творчеству. Витгенштейн искал себя в жизни точно так же, как искал себя в философии, а значит, его биография и философские труды дополняют друг друга. Родился Витгенштейн в 1889 г. в Вене в семье сталелитейного магната Карла Витгенштейна. Учился в школе в Линце, затем в высшей технической школе в Манчестере, в Англии. Вначале Витгенштейн проработал какое-то время у Фреге. Затем, по совету Фреге, в 1911 г. он едет в Кембридж к Расселу, чье учение его серьезно интересовало и с которым ему удалось (по крайней мере на некоторое время) наладить самые дружеские отношения. 1913 год — год смерти отца Витгенштейна, когда оказалось, что молодой философ унаследовал большое состояние. Значительную часть наследства Витгенштейн пожертвовал деятелям австрийской культуры (в числе которых были Райнер Мария Рильке и Георг Тракль), а от оставшейся части наследства отказался в пользу своих сестер и братьев. Европа в те годы стояла на пороге катастрофы — Первой мировой войны. Как и двое его братьев, Витгенштейн считал своим долгом защищать родину и в 1916 г. вступил в австрийскую армию добровольцем. Свое самое знаменитое произведение — «Логико-философский трактат» — Витгенштейн пишет во время войны и завершает в1918 г. В1919 г., после освобождения из итальянского плена, Витгенштейн возвращается в Австрию, где сразу же приступает к переговорам с издателями. Однако издатели не торопились с публикацией столь неординарного произведения. Первые два издания вышли только в 1921 г.: сначала на немецком в Германии, затем на английском и с предисловием Рассела в Лондоне. Сам Витгенштейн в это время был уже далеко от городов и интеллектуальной суеты — он отправился в глухую деревушку в Австрийских Альпах, где устроился учителем начальных классов. Учителем Витгенштейн проработал около 5 лет, до 1926 г. Затем Витгенштейна посетило желание стать монахом, затем какое-то время он проработал садовником, и, наконец, принимал непосредственное участие в строительстве дома для своей сестры Маргарет в Вене, на Кудмангассе. В 1927 г. Витгенштейн более или менее регулярно посещал собрания Венского кружка, для представителей которого он уже успел стать культовой фигурой. Однако «профессиональное» возвращение к философии происходит только в 1929 г., когда Витгенштейн возвращается в Кембридж, где в том же году защищает диссертацию. Последние 20 лет своей жизни Витгенштейн провел в Кембридже, читая лекции по философии. В этот период своего творчества Витгенштейн много писал и практически ничего не публиковал. В 1934 г. он побывал с визитом в Советском Союзе. Цель посещения была так же неординарна, как и весь стиль жизни философа, — он хотел жить и работать в стране пролетариата. Известно, что Витгенштейн овладел русским настолько хорошо, что мог читать в подлиннике Достоевского. В Советском Союзе его приняли хорошо, предлагали занять кафедру философии в Казанском университете, но вотжелание возделывать поля или стоять у станка удовлетворить никак не желали. Вернувшись из Страны Советов, Витгенштейн ни с кем и никогда не обсуждал свою поездку. Чтобы позиция Витгенштейна стала хоть сколько-нибудь понятной, добавим, что своим лучшим ученикам в Кембридже Витгенштейн советовал найти работу в каком-нибудь большом магазине или фирме, где можно встретить обыкновенных людей и получить тот необходимый опыт, который остается недоступным до тех пор, пока человек погружен в «бескислородную» среду университета. Во время Второй мировой войны Витгенштейн работал санитаром в одном из госпиталей Лондона, поскольку считал недостойным преподавать философию в то время, когда немцы бомбили столицу Англии. Умер Витгенштейн от рака в ночь на 29 апреля 1951 г., сказав жене врача, дежурившей у его постели: «Передай им, что у меня была прекрасная жизнь». При жизни Витгенштейна были опубликованы только две его работы: книга «Логико-философский трактат» (1921) и статья в «Трудах аристотелевского общества» — «Несколько рассуждений о логической форме». Следует упомянуть еще одно «нефилософское» произведение — «Словарь для народных школ», который был издан в 1928 г. в рамках школьной реформы, в которой Витгенштейн наряду с представителями Венского кружка принимал самое деятельное участие. Все остальные труды Витгенштейна были опубликованы уже после его смерти. Самое важное из них, подводящее итог «поздней» философии Витгенштейна, — «Философские исследования» — было издано в 1953 г., спустя два года после смерти философа. Витгенштейн не только получил блестящее образование, но и был очень начитанным человеком. Из его книг, дневников, а также из воспоминаний его друзей и коллег, мы знаем, что его интересовали труды Августина, Шопенгауэра, Кьеркегора, Шпенглера, а также Достоевского и Толстого. Определенное влияние на философию Витгенштейна оказал также и Кант. Об этом свидетельствует увлечение Шопенгауэром и Фреге, которые во многих своих рассуждениях опираются на философию Канта. Известно также, что, будучи в итальянском плену, австрийский философ читал и обсуждал Канта с Людвигом Ханзелем. По мнению Э. Стениуса, ранний Витгенштейн задает вопрос, аналогичный по форме кантовскому: Кант спрашивал о том, как возможно суждение, а Витгенштейн (в «Трактате») о том, как возможны предложения. Ранний Витгенштейн — «Логико-философский трактат». «Логико-философский трактат», основное произведение раннего Витгенштейна, ознаменовал целую эпоху в философии ХХ в. и, прежде всего, в англоязычной философии. Идеи, получившие свое развитие в «Логико-философском трактате», были сформулированы первоначально в работах, заметках, дневниках и письмах, которые Витгенштейн писал на протяжении 1913—1921 гг. Сам Витгенштейн дал рукописи название «Der Satz», т. e. «предложение» или «пропозиция». Свое латинское название (Tractatus Logico-Philosophicus) книга получила незадолго до публикации — его предложил Дж. Э. Мур, которому книга Витгенштейна напомнила труды Спинозы. «Логико-философский трактат» Витгенштейна получил известность после английского издания, предисловие к которому написал Рассел. При всем глубоком уважении, которое питал Витгенштейн к Расселу, его предисловием он был крайне недоволен, поскольку в нем рассматривались исключительно логические, а не мировоззренческие аспекты работы. С точки зрения Рассела, в «Трактате» Витгенштейн исследует условия, необходимые для построения логически совершенного языка и одновременно постулирует необходимостьдля обычного языка стремиться к этому идеалу. Указанная идея согласуется с содержанием трехтомной Principia Mathematica (1910—1913), написанной Расселом совместно с Уайтхедом. Разъясняя действительную цель написания «Трактата», Витгенштейн писал своему другу Людвигу Фон Фикеру: «Цель книги этическая... Моя работа состоит из двух частей: первая часть представлена здесь, а вторая — все то, чего я не написал. Самое важное — именно эта вторая часть. Моя книга как бы ограничивает сферу этического изнутри. Я убежден, что это единственный строгий способ ограничения». Таким образом, «Логико-философский трактат» с самого начала, исходя из собственной характеристики автора, предстает как книга неоднозначная, которая провоцирует множество интерпретаций и «скрывает» свои основные и главные идеи. Задача «Логико-философского трактата», как о ней говорит в предисловии сам Витгенштейн, заключается в том, чтобы «провести границу выражению мысли», а смысл книги можно было бы сформулировать так — «то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, о том же, что сказать невозможно, следует молчать». Неудивительно, почему Рассел в предисловии к лондонскому изданию определяет общую проблему «Трактата» как проблему построения логически совершенного языка (точнее, построение правильной символической системы, которая бы дала возможность получить логически совершенный язык). Итак, Витгенштейн исследует в «Трактате» возможности выражения в языке знаний о реальности, или иначе — условия, которые позволяют всякому естественному языку выполнить его функции по описанию действительности. Однако прежде чем перейти к рассмотрению основных положений «Трактата» необходимо отметить несколько важных идей, которые последовательно обосновываются и раскрываются в книге. Первая заключается в том, что онтологически первичным является вопрос не о бытии, существовании или не существовании, а о выражении (и его формах — изображении, показывании, означивании и наделении смыслом). Данная идея является принципиальной, поскольку критерий выразимости является основным для разграничения области реального и области мистического. В соответствии со второй идеей, мышление неотделимо от языка. Поставив границы языку, следовательно, можно одновременно поставить границы мышлению. Третья касается того отношения, в котором находится мир и язык или онтология и семантика: онтологические (логические) и семантические (лингвистические) понятия зеркально отражаются друг в друге. Наконец, в-четвертых, Витгенштейн обращает особое внимание на роль философии, которая сводится к прояснению языковых выражений и является не учением, а деятельностью. Таким образом, основными предметами, которые обсуждаются в «Трактате», являются мир, язык, логика и мышление. Прояснение их структуры и соотношения, согласно Витгенштейну, позволяет провести границы человеческому познанию. Именно в этом отношении позицию Витгенштейна необходимо признать критической. В процессе прояснения границ выражения мысли или границ познания получает свой статус область мистического как принципиально невыразимого. Вопрос о функциях и задачах философии носит двойственный характер, поскольку философией оказывается не только та философия, которой выносит свой приговор автор «Трактата» — необходимость ограничиться критикой языка, — но и все содержание «Трактата» как собственно философского произведения. Для онтологии «Трактата» главным понятием является «объект» (Gegenstand). Объекты, а не вещи или предметы составляют субстанцию (онтологическую ос-нову) мира. Вещи, предметы — это то, что может быть воспринято чувствами. Заметим, что Рассел считал «объекты» Витгенштейна «чувственными данными» (sense data), но «Логико-философский трактат» не дает основания для такой точки зрения. Объекты не воспринимаются чувствами и представляют собой некоторые элементарные формы, которые лежат в основании мира. Поскольку объект прост, он не обладает никакими свойствами и не принадлежит действительному миру. Объекты, далее, имеют логический характер, поскольку существуют в логическом пространстве. В этом смысле объекты лишь реализуют требование логико-семантической теории Витгенштейна, составляя предел логического анализа предложения, и предназначены прежде всего для того, чтобы решить главную логическую проблему — как возможен содержательный (значимый) язык. Следующим звеном онтологической структуры является «событие» или «положение дел» (Sachverhalt). Объекты соединяются в положения дел — т. е. некие элементарные фактические ситуации. То, что Витгенштейн называет «фактом» (Tatsache), складывается из структур событий (положений дел). При этом если в событии объекты определенным образом соотносятся друг с другом, то на уровне факта, когда речь идет о соотношении событий, в действие вступает принцип атомарности: события (положения дел) могут образовывать сложные конфигурации, но в то же время они остаются полностью независимыми. Сложнее дело обстоит с «миром» (Welt), который Витгенштейн определяет как «действительность во всем ее охвате» (2.063). Дело в том, что предметом познания, как следует из содержания «Трактата», могут быть лишь различные элементы мира, но не мир в своей целостности, который принадлежит уже области мистического (6.44). Перейдем теперь к вопросу о соотношении онтологии и языковой реальности. Главная семантическая функция объектов — это значение имен. Имена — элементарные знаки, предел лингвистического деления языка. Имена обозначают объекты, т. е. объект есть значение имени. Имена обладают значением, но не обладают смыслом. Совокупность имен образует предложение. В основе нашего знания о мире лежат элементарные предложения — образы элементарной ситуации или события (положения дел). Элементарные предложения могут составлять вместе сложные предложения. Элементарные предложения — функции самих себя, а потому не противоречат друг другу. Сложные предложения обозначают факты. Лучше всего обозначают факты сложные предложения естествознания, которые обладают смыслом, т. е. могут быть истинными или ложными. Область осмысленного — область логически возможного. Ложные предложения выводят нас за пределы реальных фактов, в иной возможный (с точки зрения логики, но не реальности) мир. Адекватность «отражения» мира в языковом и логическом пространстве гарантирует такое понятие как «логическая форма» (logische Form). Однако, чтобы понять содержание и функциональную нагрузку, которые несет логическая форма, необходимо сказать несколько слов еще об одном понятии — «картине» (Bild), через которое Витгенштейн вводит принцип изобразительности. Картина представляет собой «модель действительности», поскольку между элементами картины и элементами действительности существует изобразительное родство. Родство в данном случае означает не простое сходство, но определенное тождество. Картина способна изображать действительность в силу того, что в определенном отношении ей тождественна, а именно — она имеет форму этой действительности, т. е. логическую форму. Предложение — это «картина действительности» (4.021). Образцом картины или картинойв чистом виде являются предложения естествознания. То, что картина изображает, составляет ее смысл (2.201; 2.221). Предложения обладают смыслом, поскольку они могут быть истинными или ложными, т. е. истинно или ложно изображать действительность (события и факты). Особым статусом обладают предложения логики. Они ничего не обозначают, лишены смысла, но показывают структуру языка, показывают границы мира. Хотя логические предложения и лишены смысла, нельзя сказать, что они бессмысленны. Логические предложения ничего не могут о себе сказать, но они обладают логической формой, которая позволяет другим предложениям правильно отражать мир. Описанную концепцию Витгенштейна принято называть «логическим атомизмом». Возникает, следовательно, вопрос об отличии данной концепции от логического атомизма Рассела. Рассел полагает, что возможен непосредственный контакт между физическим и ментальным (понятие «чувственных данных» и «знания-знакомства»). Согласно Витгенштейну, между миром и нашим языковым сознанием устанавливаются отношения особого рода — предложения изображают действительность. Следующее отличие связано со способом обоснования логического атомизма: в случае Рассела, приоритетом обладает эмпирическое обоснование, в случае Витгенштейна, — речь идет о логической необходимости. Наконец, логический атомизм представляет собой лишь часть философского учения Витгенштейна, над которым надстраивается область мистического, находящегося за пределами логики и языка. В философии Рассела не существует места для мистического или его аналогии. В связи с тем, что основной задачей «Трактата» является установление границ мыслимому, особое значение приобретает оригинальное истолкование понятия «субъекта». Субъект характеризуется в «Трактате» двояко — как метафизический и как волящий субъект. Оба субъекта находятся вне мира и не могут быть описаны. О субъекте как о воле мы не можем сказать ничего, кроме того, что он существует. Этот субъект не имеет никакого отношения к миру (6.374) и обладает только этическими атрибутами, о которых говорить невозможно (6.423). Нас будет интересовать прежде всего метафизический субъект. Так как субъект не может быть составным (5.5421), то его нельзя трактовать как совокупность мыслей, чувств и ощущений. Понимая субъект как нечто простое, мы можем предположить, что он является одним из объектов, но Я не является частью мира (5.631, 5.632, 5.633, 5.641) и, следовательно, не может быть объектом. Законно говорить о субъекте, согласно Витгенштейну, можно лишь в том случае, если подразумевать под субъектом «границу мира» (5.632). Чтобы понять особенное отношение Витгенштейна к субъекту, следует иметь в виду два момента. Во-первых, в качестве модели для размышления о мире от первого лица Витгенштейн использует понятие «визуального поля», границей которого является глаз. Во-вторых, Витгенштейн отказывается от традиционного разделения на субъект и объект. По аналогии с «полем зрения», которое не позволяет видеть глаза, мы не можем обнаружить метафизического субъекта в мире (5.633). К определению субъекта как «границы мира» нам нечего прибавить. Иными словами, невозможно определить субъекта как такового, без соотнесения его с миром, нельзя «изолировать» субъекта. Соотнесенный с миром субъект выступает не в качестве части мира, а в качестве точки на его границе (5.641). Субъект как граница находится в тесной связи с пониманием основной задачи философии. Философия должна установить границы мыслимого, а они могут быть установлены только изнутри, то есть внутри того, что может быть сказано. Так как сущность языка определя-ется его логической формой, то границы языка устанавливает именно логика. Язык может описывать только факты, но субъект не является фактом (так как факты принадлежат миру, а субъект не является частью мира), а потому не может быть описан. В отличие от логической формы он также не может быть показан, но тем не менее существует как граница, где мир и «мой мир» совпадают. По мнению Витгенштейна, солипсизм подразумевает, что «мир есть мой мир». С другой стороны, солипсизм совпадает с реализмом, поскольку субъект «сжимается до непротяженной точки», и, говоря о моем мире, мы всегда говорим о просто мире. Так как субъект не может быть частью мира, он является в отношении мира либо всем, либо ничем. Положение Витгенштейна о том, что солипсизм есть реализм, свидетельствует о том, что оба решения эквивалентны. Действительно, можно говорить, что все есть субъект, так как мир есть мой мир, но также можно говорить, что все есть мир, так как субъект вне мира есть ничто (существующее). Солипсизм есть реализм также и потому, что субъект никак не влияет на факты мира, не сообщает ему никакого личного характера. Субъект занимает столько же места в моем мире, сколько он занимает в мире вообще. Когда мы отказались от мыслящего Я, то одновременно отказались и от дуалистической интерпретации солипсизма, когда существующими полагаются и субъект, и мир. Реализм, для Витгенштейна, представляет собой способ избежать психологизма (психологического субъекта) и говорить исключительно о реальности (событиях и фактах). Необходимо обратить внимание на то, что Витгенштейн отрицает существование субъекта, но не души, которая является предметом психологии (5.641). Так как мир разделен на факты, то психологическое Я состоит из фактов, составными частями которых являются мысли, боль, желания и т. п. Целью «Трактата» было установление «границы выражения мысли» через анализ логики языка. Границы выражения мысли, как мы выяснили, являются одновременно границами мира, так что логика языка дает нам полное представление о логике мира. При этом Витгенштейн полагает, что лучше всего логику мира должен отражать «знаковый язык» — в нем будут отсутствовать ошибки, навязываемые повседневным языком, который «переодевает мысли». Таким образом, единственной логике мира в идеале (в принципе осуществимом) соответствует единственный язык, подчиняющийся «логической грамматике» (3.325). Если к этому прибавить понятие субъекта (согласно которому субъект хотя и соотнесен с миром, но ничего в нем не меняет), то становится очевидным, что в «Трактате» нет места для эпистемологических вопросов: проблематичным является не познание, а его границы. Область мистического. Исследование соотношения языка, логики и реальности для Витгенштейна не было самоцелью. Язык — это индикатор границы мира, методологическое средство в познании мира и показывании того, что является общим между действительностью и познанным. Но что же находится за пределами мира? То, о чем нельзя говорить. За пределами языка (мира фактов, науки и логики) находится бессмысленное. Это экзистенциальная область, «мистическое», область самого ценного для человека. Все, что относится к мистическому, невыразимо с помощью осмысленных предложений-картин, отображающих факты, но оно показывает себя (6.522). В качестве мистического, неотображаемого в виде факта, у Витгенштейна, выступают субъект (5.631, 5.632, 5.633), Бог (6.432), этическое и эстетическое (6.421, 6.422), а также метафизика, включая собственные утверждения автора «Логико-философского трактата» (6.54). Ранние интуиции Витгенштейна, касающиеся мира, воли, метафизичес-кого Я, эстетики и этики, которые нашли свое отражение в «Трактате» и «Дневниках», имеют своим источником соответствующие идеи Шопенгауэра. Как и Шопенгауэр, Витгенштейн выводит этику за пределы мира и отделяет ее от разума. В этом пункте он полностью отходит от Канта, но зато следует основным постулатам философии жизни. Такие высказывания «Трактата», как «Мир есть мой мир» (5.641) и «Мир и жизнь суть одно» (5.621), а также некоторые другие, нередко получают истолкование в свете шопенгауэровского учения. Существуют различные точки зрения на соотношение мистического и бессмысленного у Витгенштейна. Так, Э. Стениус отождествляет данные понятия. Однако при таком решении вопроса Витгенштейн автоматически предстает в виде представителя логического позитивизма, поскольку мистическое как бессмысленное в этом случае следует отбросить, изгнать из сферы познания. В пользу такой позиции обычно приводится параграф 6.53 «Трактата», где речь идет о «единственно строгом» (eizig streng) методе в философии. Но необходимо учитывать также и следующее обстоятельство: «бессмысленность» в «Логико-философском трактате» является характеристикой не одного, а двух классов предложений — предложений философии (6.54) и предложений логики (6.124). Способность не говорить о самих себе ничего, но при этом показывать свою суть, есть еще одна общая характеристика логики и философии (6.522, 6.124). Проблема в том, что предложения логики связывают нас с миром, а предложения философии позволяют выйти за его пределы. Первым мы невольно следуем, поскольку живем в мире, вторые мы должны постоянно «преодолевать», иначе они просто не нужны. Взаимосвязь между проговариванием и экзистенциальной сменой мировоззрения, совершаемой в бессловесной области (области молчания), выражается в понимании философии не как учения, а как деятельности. Поздний Витгенштейн — «Философские исследования». В предисловии к «Философским исследованиям», главному произведению позднего Витгенштейна, опубликованному после его смерти в 1953 г., автор называет свою книгу «философскими заметками» (philosophische Bemerkungen) и просто «альбомом» (Album), отмечая крайнее разнообразие тем и отсутствие единства в ее коротких параграфах. «Философские исследования» выросли из заметок, которые делал Витгенштейн в течение 16 лет. Вначале он попытался собрать их воедино так, чтобы мысль следовала от одного предмета к другому, не прерываясь, но достичь этого так и не удалось. По словам самого Витгенштейна, публикацию незавершенного труда можно было бы объяснить, с одной стороны, предвзятым и неверным истолкованием идей, высказанных им в лекциях, рукописях и дискуссиях, с другой — радикальным изменением в его «способе мышления» и желанием исправить «серьезные ошибки», которые имели место в «Логико-философском трактате», а также стремлением «побудить кого-либо к собственным размышлениям». Насколько неоднозначно и противоречиво само произведение австрийского философа, настолько же разнообразны и часто противоположны его общие оценки среди последователей и комментаторов. Одни считают, что оно знаменует качественно новый период в его философском творчестве, а его совместная публикация с «Логико-философским трактатом» рассматривается как отречение автора от последнего. Другие, напротив, говорят о последовательном развитии идей Витгенштейна, которое продолжалось в течение всей его жизни, что исключает противопоставление двух его главных книг. Позицию автора называют и «картезианской», и «бихевиористической», и «лингвосемантической», тем самым, однако, не исчерпывая богатого содержания «Философских исследований».Изменение общей философской позиции Витгенштейна связано прежде всего с его обращением к повседневному языку общения. Смена установки, как считается, произошла уже в 1930 г., т. е. гораздо раньше, чем началась работа над «Философскими исследованиями». Об этом свидетельствует относительно недавняя (1980 г.) публикация его кембриджских лекций 1930— 1932 гг., в которых под грамматикой понимается уже не свод вечных и неизменных грамматических правил (не чистая грамматика «Трактата»), а грамматика нашего повседневного языка. В «Философских исследованиях» на первый план выступает проблема того, как мы познаем, т. е. эпистемологическая проблема. Исследование по-прежнему ограничивается рамками языка, но место «логики», общей для всех языков, занимает «грамматика естественного языка», а место «логической формы» — «формы жизни». Если, скажем, у Аристотеля, логика и грамматика совпадают, поскольку процесс сравнения и объединения вещей по общим признакам выражен прежде всего в языке, в его грамматических категориях, то у позднего Витгенштейна логика и грамматика обладают различным содержанием, так как под грамматикой подразумевается глубинная грамматика естественного языка, которая занимается «языковыми играми», «формами жизни», а под формальной логикой — одна из языковых игр. Обращение к естественному языку означает одновременно отказ от «монистической» позиции: о мире мы можем говорить только как о совокупно, ста возможных и действительных «языковых игр» и «форм жизни». Осмысленность нашей жизни целиком зависит от возможности ее вербального выражения. Что же понимает Витгенштейн под языком вообще? Явления, которые мы называем языковыми, а в целом обозначаем словом «язык», не имеют ничего общего, что бы заставляло нас употреблять одно и то же слово для всех. Однако они соотносятся друг с другом различными способами: «Именно благодаря этой взаимосвязи или этим взаимосвязям мы называем их «языком» (ФИ, §65). Под «взаимосвязями» языковых явлений Витгенштейн подразумевает «семейное подобие» (ФИ, §67), которое означает, применительно к понятию языка, что в явлениях, которые мы называем языковыми, различные элементы постоянно повторяются, но ни один из них не является общим для всех. Итак, не существует единственного определения языка, которое бы подходило для всех языков, однако существуют необходимые требования, предъявляемые к функционированию слов в языке. В их числе можно назвать понимание значения как употребления и наличие правил употребления. Таким образом, под языком Витгенштейн понимает именно «работающий» язык, язык, который мы употребляем. В этом языке нашего повседневного общения нет места для понятия «языка», «мысли», «мира» как таковых, поскольку языковая игра, в которой бы эти понятия употреблялись, отсутствует (ФИ, §96). Представление Витгенштейна о языке непосредственно связано с его представлением о функциях и возможностях философии. Если основной задачей философии является описание языковых игр и форм жизни, то она не может нам сказать больше, чем говорят сами эти игры, и, следовательно, познание сущности языка, мысли и мира выходит за пределы компетенции философии. Жизнь играет в поздней философии Витгенштейна роль «метафизического предела», и ближе всего мы подходим к жизни, понятию, которое не поддается какой-либо концептуализации, в анализе понятия «формы жизни». Взаимодействие двух изначальных способностей, присущих человеку, — способности к действию и способности к языковому выражению — порождает дорефлективное поле первичных человеческих ориентаций, которое Витгенштейн называет«формой жизни». Такое взаимодействие может осуществляться различными способами, поэтому число «форм жизни» ограничивается только актуальностью их употребления. Формы жизни призваны структурировать исключительно человеческую жизнь в целом, быть ее подосновой, их функция не может быть распространена на более частные явления. Не обладая объяснительной силой, формы жизни не могут быть использованы в построении социологических теорий, которые неизбежно сообщили бы им рационалистический характер, им не свойственный. Lebensformen уникальны в том смысле, что в противоположность формальным элементам математики и логики они не могут быть осознаны, но только пережиты и даны в опыте. Это означает, что формы жизни никогда не могут быть предметами Erkennen, т. е. познания, но только категориями Erleben. Поэтому Витгенштейн считает, что мы должны относиться к ним как к данным: они не могут быть оправданы, рационализированы или объяснены теоретически. Отметим, что в учении позднего Витгенштейна о «языковых играх» и «формах жизни» просматривается очевидное влияние философии О. Шпенглера. К примеру, влиянием Шпенглера можно объяснить высказывание Витгенштейна относительно невозможности понять чужой народ, даже если мы освоили его язык. Проблема «чужих сознаний» была в центре философских дискуссий в 60-е годы. Обоснование существования «чужих сознаний» в «Философских исследованиях» содержится главным образом в аргументах от «личного языка», которые затрагивают большую часть тематизируемых Витгенштейном понятий. Вопрос о существовании личного языка заключается в следующем: возможен ли язык для передачи внутреннего опыта, непосредственных частных ощущений (ФИ, §243) ? За необходимое условие принимается невозможность понять этот язык другим человеком. Процесс создания личного языка на первый взгляд кажется довольно простым: меня заинтересовало какое-либо из моих ощущений, я концентрирую на нем свое внимание, придумываю для него соответствующий знак или слово, а затем употребляю это слово всякий раз, когда у меня возникает это ощущение. Анализу личного языка в «Философских исследованиях» посвящены параграфы 243 — 280, однако большинство исследователей склоняется к тому, что сама постановка проблемы, а отчасти и ее решение, заложены как в предшествующих, так и в последующих параграфах. Проблема «чужих сознаний» становится для Витгенштейна одной из ключевых тем именно в поздний период творчества, когда на первый план выходит эпистемология, а лингвистический солипсизм «Логико-философского трактата» перерастает в методологический солипсизм «Философских исследований». Методологический солипсизм принципиально отличается от метафизического и эпистемологического солипсизма, так как Я является для него первичным лишь на определенном этапе. Конечно, отношение к другим сознаниям может быть только опосредованным (что находит подтверждение в анализе предложений от третьего лица), но употребление нашего языка свидетельствует о том, что сомнение по поводу их существования у нас отсутствует. На чем же основано наше право выносить подобные суждения? Приведем некоторые из аргументов, опровергающих существование личного языка. (1) Подвергая анализу естественный язык, Витгенштейн приходит к выводу о том, что естественное выражение ощущений (крик, стон и т. п.) при освоении языка необходимым образом замещается (а не описывается) языковым выражением, что становится возможным только благодаря существенному сходству между ощущениями различных людей. Таким образом, о личном характере ощущений следует говорить прежде всего в смысле непосредственности их переживания, а не в смысле их отличия от ощущений других людей. (2) Да-лее, необходимость внешнего выражения ощущений ставит под сомнение существование личного языка, поскольку делает возможным сопоставление слов этого языка с соответствующим поведением, результатом чего является понимание личного языка другими. (3) Для решения проблемы существования личного языка ключевым понятием является именно язык, а не личный характер ощущений. При идентификации ощущения человеку необходимо различать между правильным и неправильным употреблением слова. Но правила в языке задаются грамматикой и соблюдаются всеми членами языкового сообщества. Из этого вытекает, что в личном языке отсутствует понятие правила. Метод философии, согласно Витгенштейну, является дескриптивным — философия ничего не объясняет, а только описывает. Описание как прояснение того, что скрыто в обычном способе употребления языка, не может быть имманентно этому способу и подразумевает смену установки, или, в терминах феноменологии — эпохе, которое тематизирует обычный язык. Кроме того, следует иметь в виду, что грамматическое описание в философии языка не имеет ничего общего с грамматическим описанием в лингвистике. Грамматика, в понимании Витгенштейна, является «глубинной грамматикой», и должна описывать то, что является существенным в языковых играх, т. е. то, что связывает язык как символическую систему с жизнью. Результатом подобного грамматического анализа является выявление целого ряда понятий, с помощью которых описывается функционирование обычного языка. Такая концептуализация, однако, не означает создание полной и совершенной модели языка, что, согласно Витгенштейну, невозможно. Сделав предметом своего анализа обыденный язык, Витгенштейн ставит пред собой задачу не покидать «твердой почвы» (ФИ, § 107), что фактически происходит при любой попытке формализовать повседневный язык. Таким образом, австрийский философ ставит себя в достаточно затруднительное положение, когда, с одной стороны, требуется найти закономерности, выделить существенное, а с другой стороны, сохранить по возможности язык таким, каков он есть, в его естественном употреблении. Витгенштейн решает эту задачу, признавая за языком изначальную неоднозначность, которая должна оставаться нетронутой при любом философском анализе. В связи с изменением метода, в поздней философии Витгенштейна изменяется также и понятие Я (субъекта). В «Философских исследованиях» субъект рассматривается грамматически, а не формально-логически. Исходной точкой для такого рассмотрения является употребление личного местоимения «я», а также лингвистические действия говорящего. Первичное единственное Я «Трактата» было непротяженной точкой, не имеющей содержания, метафизическим условием опыта. Субъект в «Философских исследованиях» становится условием грамматическим: «Я» — это слово, обладающее единственной в своем роде грамматикой. Что касается понимания «сознания», то в поздней философии Витгенштейна оно носит критический характер. Задачей, которую ставил перед собой Витгенштейн, была жесткая критика теории познания как части философской метафизики, с его точки зрения ложной и потому малоэффективной. Если проводить историко-философские параллели, то критику, предпринятую Витгенштейном, можно было бы сравнить с критикой понятия «Я» в эмпириокритицизме и прагматизме, когда указанное понятие признается не более чем «знаком», употребление которого, возможно, и целесообразно в повседневной практике, но в науке оно только порождает неразрешимые и иллюзорные проблемы. Но если у Авенариуса или Джеймса критика осуществляется с по-зиции эмпирических дескрипций, в первом случае посредством редукции к ощущениям, а во втором — к состояниям сознания, то Витгенштейн разоблачает философско-психологические понятия посредством критики языка. Критика теоретических установок, полагаемых незыблемыми, у Витгенштейна дополняется критикой интерпретаций психологических состояний с позиций «здравого смысла». Источником ошибок и в первом и во втором случае следует считать формы нашего повседневного языка, устроенного таким образом, что определенные идеи кажутся естественными и потому принимаются за истинные, хотя и не являются таковыми в действительности. При рассмотрении позитивного ядра философии сознания Витгенштейна необходимо прежде всего обратить внимание на то, что предложенная им концепция сознания является составной частью общего концептуального подхода к философским и научным проблемам. Иными словами, философия сознания, как она представлена в «Философских исследованиях», представляет собой закономерное развитие идей, заложенных в философии языка как продуманной теоретической установке, а значит, адекватное ее понимание невозможно без учета более широкого контекста. В отношении сознания непосредственным предметом изучения для Витгенштейна становится функционирование психологических понятий, т. е. ответ на вопрос, как именно они работают. Сознания как внутренней сущности, к которому у субъекта существует привилегированный доступ, согласно Витгенштейну, просто не существует. То, что мы привыкли называть «сознанием» (а также его различными состояниями и актами), есть прежде всего понятие и потому всегда уже контекстуально, включено в ту или иную языковую игру и связано с теми или иными обстоятельствами. Конечно, заметную роль в данном выводе играет переход от внутреннего к внешнему, выразимому в языке и реализуемому в поведении. Последнее послужило причиной причисления Витгенштейна к представителям бихевиоризма. В литературе этот вопрос остается предметом острых дискуссий. Хотя все основные признаки данной позиции у Витгенштейна присутствуют, его собственную точку зрения определяет «поправка» на творческое конструирование языковой реальности: поведение становится осмысленным лишь в той мере, в какой оно соизмеряется с языковой игрой, т. е. получает языковую интерпретацию. Употребление языка, его означающая функция являются социальными по своей природе, т. е. характер социальности присущ им изначально. Связь мышления и языка также полагается изначальной, а значит, любое подразумевание, любой (полагаемый внутренним) ментальный акт вправе называться таковым лишь в силу своей языковой проявленности. Феномены понимания, полагания, воления, воображения и т. п., с точки зрения Витгенштейна, не представляют собой изолированные процессы или функции сознания и, следовательно, не могут отсылать к какой-то однозначной дефиниции и объяснению. Как и в случае с языком мы имеем дело лишь с «семейными подобиями»: феномены сознания классифицируются не в соответствии с видовыми и родовыми признаками, которые подразумевают конечную редукцию к общему признаку, а в соответствии с множеством языковых игр, в которых они показывают себя. Реальность феноменов сознания, таким образом, — это реальность употребления соответствующих понятий. В отличие от реальности традиционно и при этом неоправданно приписываемых им значений реальность употребления раскрывает их подлинный смысл. В этом смысле, язык ничего не скрывает, однако, требуется особая методика, чтобы проследить принципы и особенности его работы, чем, собственно, и должна заниматься, как полагал Витгенштейн, стоящая философия.Тезис о социальности языка имеет следствие и иного рода. Фактически сняв проблему солипсизма, Витгенштейн тем не менее остается плюралистом, т. е. отстаивает несводимость различных «форм жизни» (и соответствующих им культур) друг к другу. Но там, где общее проявляется лишь в форме «семейных подобий», разговор о нахождении смысловых эквивалентов, переводе значений одной культуры в другую, становится проблематичным. Иными словами, взаимопонимание требует общего поля, а, согласно Витгенштейну, поиск таких точек соприкосновения далеко не всегда может привести к положительному результату. Концепцию языковых игр Витгенштейна, таким образом, можно рассматривать как альтернативу психологическому словарю традиционной философии сознания. Место, которое в философии сознания, ориентированной на субъекта, занимает описание процесса познания и понимания, в философии Витгенштейна занимает дескрипция языковых игр, в контексте которых (и нигде помимо него!) слова и интенции обретают смысл. Уже с другой стороны мы вернулись к высказанному ранее тезису о запрете на дефиниции и обобщения в области психологии и философии сознания — любой смысл, приписываемый понятиям (словам) помимо языковой игры, оказывается пустым или ложным. Картина мира, выстроенная в соответствии с философией языка позднего Витгенштейна, не имеет ничего общего с картиной мира, в которой язык репрезентирует наличные предметы и положения дел или события. В действительности представление о соотнесенности языка и мира у позднего Витгенштейна отличается не только от идей «Логико-философского трактата», но и в целом от парадигмальной для европейской философии картины мира. Языковые игры не отражают и не описывают мир, а создают мир, выкраивая его по меркам своей праосновы — «формы жизни». Собственно деятельность и область невысказываемого при такой постановке вопроса определяют ту или иную «заданность» мира, но остаются за его пределами. Миром оказывается то, что было осмыслено или, что то же самое, на чем лежит печать языка. Литература1.Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 2.Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. 3.Витгенштейн Л. Дневники. 1914— 1916 (сокращенный перевод) // Современная аналитическая философия. Вып. 3. М., 1991. С. 167 — 178. 4.Wittgenstein L. Schriften. Ed. by Friedrich Waismann. Suhrkamp, 1960. 5.Руднев В. Божественный Людвиг. M., 2002. 6.Фон Вригт Г. X. Витгенштейн и двадцатый век // Вопр. философии. 2001 № 7. С. 3346. Вступительная статья: Козлова М. С. Витгенштейн: новый образ философии. С. 25-32 7.Грязнов А. Ф. Язык и деятельность: Критический анализ витгенштейнианства. М„ 1991. 8.Грязнов А. Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна: Критический анализ. М., 1985. 9.Козлова М. С. Был ли Л. Витгенштейн логическим позитивистом? // История философии. № 5, 1999. 10.Сокулер 3. А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии ХХ века. Долгопрудный, 1994. Глава 19. ВЕНСКИЙ КРУЖОК Деятельность Венского кружка открывает особый этап в развитии философского позитивизма — неопозитивизм. Эволюционируя, Венский кружок во многом определил проблематику различных направлений современной мысли — от логического позитивизма в вариантах Б. Рассела и А. Айера и постпозитивизма К. Поппера, сформировавшегося как критика Венского кружка, до новейшей аналитической философии. Первоначально термин «логический позитивизм» относился непосредственно к Венскому кружку и обозначал критическое отношение к традиционной (метафизической) философии и использование логических приемов анализа языка в качестве универсального метода построения эмпирической науки. Вряд ли можно считать принципиальным влияние этих идей на науку, но в философии идеи венцев оказали заметное воздействие. Венский кружок представляет собой уникальное для философии ХХ в. явление устойчивого и организованного членства в научном философском семинаре, проходившем с 1922 г. на кафедре индуктивных наук Э. Маха в Венском университете. Хотя многие исследователи датируют начало деятельности кружка двумя годами раньше — 1920 г. Организатором выступил новый заведующий кафедрой физик Мориц Шлик (1882— 1936), занимавшийся теорией относительности Эйнштейна, автор манифеста кружка «Революционный переворот в философии», постоянными членами были Отто Нейрат (1882 —1945), логик и математик Рудольф Карнап (1891 — 1970). Представлены были и немецкие ученые Карл Гемпель (1905-1998), Ганс Рейхенбах (1891-1953). Были и временные члены кружка, работавшие где-то по полгода — англичанин Альфред Юлиус Айер (1910—1989), американец Уиллард ван Орман Куайн (1908 — 2000). Кружок посещали такие знаменитости, как математики Гёдель и Ган. Историком кружка был Виктор Крафт. В работе кружка участвовал и Филипп Франк, автор «Философии науки», переведенной на русский язык. У большинства было либеральное политическое прошлое: например, Нейрат был министром культуры в Баварской республике, коммунист. На первом этапе Венский кружок выдвинул задачу создания синтаксиса научного знания. К этому периоду относится работа Карнапа «Логическая структура мира» (1928), на появление которой, как считается, большое влияние оказал Витгенштейн. В работе «Логический синтаксис языка» (1934) Карнап отказывается и от проекта идеального языка, а также подвергает критике «метафизический» логический атомизм Рассела, занимая в этом вопросе позицию, сходную с Витгенштейном. Однако следует отметить, что для позитивизма Венского кружка характерно понимание языка прежде всего с точки зрения его репрезентативных функций, в отличие от Рассела и раннего Вит-генштейна, для которых язык был прежде всего знаками системы универсальной логики. На следующем этапе — семантическом — они задействовали аппарат математической логики Г.Фреге (1848 — 1925), изменив терминологию для ее большего соответствия специфичной проблематике. Так, Карнап использует термины «интенсионал» и «экстенсионал» для того, чтобы разделить проблемы того, как обозначается и что обозначается соответственно. Именно на этом этапе венцы вплотную подошли к такой актуальной для философии языка сегодня проблеме, как теория возможных миров. В 1930 — 1939 гг. Венский кружок издает журнал «Erkenntnis» («Познание»), который пропагандировал идеи логического позитивизма. Кружок существовал до 1938 года, до аннексии Австрии, большинство ученых переехали в США и, начиная с 1938 г. и до 60-х гг. говорят о физикалистском этапе Венского кружка. Они работают над идеей создания унифицированной науки. В этот момент, как никогда более, очевидно возвращение к исходной претензии позитивизма — синтезировать научное знание. Универсальным для ученых становится язык физики, обладающий интерсубъективным характером. Т. е. язык науки фиксирует «объективное» состояние вещей, без «субъективной» оценки переживаний наблюдателя. Этим отличается физика. В отличие, например, от языка биологии, теологичного и антропологичного. Идеи физикализма оказали существенное влияние на философию и отчасти на науку 50-х — 60-х гг. Открытие физики микромира ставит проблему интерсубъективности как внутреннюю проблему самой физики. В центре интересов венцев было определение критерия научной осмысленности знания — оно может быть и ложным. Но его следует отличить от научно неосмысленного знания, которое не может быть даже ложным, так как оно бессмысленно. В науке должны остаться два класса научных предложений — аналитические истины, не имеющие предметного содержания, и фактические истины, эмпирические факты конкретных наук, значение которых может быть проверено особым способом — принципом верификации. Представители Венского кружка исходят из того деления знания на аналитическое и синтетическое, которое было предложено Юмом и в отличие от кантовского не предполагало существования априорно-синтетического знания. Аналитическое знание — априорное в логическом смысле, т. е. все логико-математическое знание не информативно и носит разъясняющий характер, как его описывал Кант. Синтетическое — все эмпирическое знание, которое составляет индуктивную науку. Исходная идея венцев состоит в том, что знание основано на простых утверждениях наблюдения. И поскольку форма выражения научных идей — языковая, то сильным средством их анализа должен стать логический анализ значения протокольных предложений — прямых фиксаций переживаемого опыта. Еще Э. Мах писал о чем-то подобном, говоря о «фактах переживаний». Философия науки должна быть ориентирована именно на такие прямые констатации. Критерием включения протокольных предложений в научную теорию, другими словами, критерием истинности, должен стать принцип верификации (подтверждения) : протокольные предложения могут быть воспроизведены. Научными могут считаться и те предложения, которые могут быть редуцированы (сведены) к протокольным по логическим правилам вывода. Такимобразом, верификация была критерием истинности, но одновременно и способом выявления значения, и принципом разграничения эмпирического осмысленного знания и метафизического, спекулятивного, неосмысленного. Однако вскоре стало очевидным, что такой прямой верификационизм невозможен в тех случаях, когда мы имеем дело с событиями прошлого, с общими суждениями и т. д. Тогда этот критерий был ослаблен и появился критерий принципиальной верификации, или верифицируемости: оговаривались условия практической проверки того или иного факта. Типичным примером стало в те годы рассуждение об обратной стороне Луны, которое в принципе можно будет подтвердить, когда будет построен летательный аппарат, который облетит Луну. Уязвимым было и само понятие протокольных предложений. Внешним критиком выступал К. Поппер, считавший, что следует вводить принцип фальсификации (опровержения) в качестве критерия истинности. Но была и внутренняя критика: например, Нейрат считал, что в науке не существует чистой констатации восприятий, так же, как не может быть и «чистого опыта», т. е. не может быть опыта, свободного от каких бы то ни было концептуальных теоретических форм. Главной мишенью Венского кружка была метафизика, сфера научно неосмысленного знания. Философия создала слишком много спекулятивных систем. При этом Карнап использовал фрейдистские образы: метафизику он определял как выражение бессознательного чувства жизни, подавляемого сознанием. Кстати, проблематика некоторых концепций аналитической философии, на первый взгляд отмежевавшихся от позитивизма 20 —50-х гг. ХХ в., так или иначе связана с проблемой выражения (репрезентации) бессознательного в духе этого высказывания Карнапа. Литература1.Крафт В. Венский кружок. М., 2003. 2.Швырев В. С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки. М., 1966. 3.Philosophie, Wissenschaft, Aufklarung: Beirtage zur Geschichte und Wirkung des Wiener Kreises. В., 1985. Глава 20. Постпозитивизм Этим термином принято обозначать работы нескольких философов середины ХХ в., тематически объединяющиеся вокруг вопросов методологии науки и подвергающие переосмыслению понятия классической рациональности. Среди наиболее известных представителей постпозитивизма: К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, М. Полани, К. Хюбнер. По сути, недалек от этого движения мысли М. Фуко. Поздний постпозитивизм дал начало социологии науки. В целом для постпозитивизма характерна проблематизация возможности познания (не только научного, но и любого) ·— от сдержанных сомнений в том, что научные теории отражают фактическое положение дел (Поппер) до бескомпромиссных утверждений о том, что наука является служанкой власти (Фейерабенд). Общая схема этого движения выглядит следующим образом. Истоки его лежат в области, которая на первый взгляд кажется далекой от философии, — в математике и физике начала ХХ в. Центральной темой для осмысления в то время была разработка теории относительности (далее — ТО). Теория эта разрабатывалась для весьма специфических условий, прежде всего для скоростей, близких к скорости света. Однако в ее рамках были получены результаты, общефилософская интерпретация которых потрясала умы: относительность одновременности, отсутствие абсолютного времени, отсутствие абсолютного и неподвижного пространства. Релятивизированы оказались также пространственные характеристики тел, их масса и так далее (одно время казалось даже, что под вопрос поставлен закон сохранения энергии). Характерно, что все это в физическом смысле совершенно не затрагивает наш мир, однако метафизические формулы, содержащие понятие релятивизма, через 100 лет стали общераспространенными не только для описания нашего мира, но и для формулирования должного философского состояния. Релятивизм из математического результата стал этико-методологическим предписанием. ТО спустилась в умы масс и превратилась в состояние постмодерна, утратив качество описательности и приобретя качество идеологии. Весь этот процесс был тесно связан с философской рефлексией науки. Методология науки и философская рефлексия двигались рука об руку в одном направлении. Философских ответов на вопрос, как относиться к открытиям ТО, было дано несколько. Н. Гартман, например, считал что в случае ТО математика была неадекватно применена к области, в которой она работать не может. Другой ответ дал Анри Пуанкаре (1854— 1912): понятия, которыми мы пользуемся, по существу представляют собой соглашения, конвенции. Развитие этойидеи, а она приобрела широкую известность, получило название конвенционализма. Конвенционализмом может называться также идея о том, что результатом соглашения являются научные теории. Тогда по существу конвенционализм совпадает с инструментализмом. Пуанкаре же придерживался конвенционализма понятий, т. е. ставил под сомнение не теорию, а понятия, в которых она формулируется. В его релятивизации понятий угадывается стремление спасти теорию, которое связано с его интуитивизмом — об этом см. далее. Еще одним ответом на вызов ТО был инструментализм, который, впрочем, имеет длительную историю. Такое название получила идея о том, что теории сами по себе ничего не говорят о реальности, они представляют собой только инструменты, которые позволяют связать между собой наблюдаемые факты, формализовать их замеченные регулярности и делать предсказания. Инструментальное понимание теории было давно предложено в астрономии, как к тем теориям, которые были позднее отвергнуты (теория о перициклах), так и к тем, которые были позднее приняты (теория Коперника). Совершенно естественно, что инструменталистское толкование было предложено и для ТО. Пуанкаре, рефлексируя собственное математическое творчество, очень ярко заострил идею интуиции, лежащей в основе всякой теории. По его мысли, теория представляет собой только последующую формализацию первоначальной интуитивной идеи. Иллюстрировал он это не только на материале ТО, а и на материале множества своих других блестящих открытий в математике. При этом он ссылался на модную тогда идею бессознательного. Позже в математике и логике возникло движение интуиционизма, для которого работы Пуанкаре сыграли роль пускового толчка. Интуиционизм представлял собой рефлексию идеи интуитивного логического творчества. Логические и математические интуиционисты требовали, чтобы для того, чтобы объект/высказывание можно было назвать истинным, было известно его построение, происхождение. Этот подход отличается от классической логики, которая работает с уже данными высказываниями. Контрастным фоном к обозначенному движению мысли является логический позитивизм (Венский кружок. См. предыдущую главу). Как свойственно вообще позитивизму, логический позитивизм первоначальным материалом познания считал эмпирические данные. Наука, по мнению логических позитивистов, должна быть корректным обобщением фактов. Метафизику они объявляли бессмысленной. Критерием правильности теории они считали ее соответствие фактам — подтверждаемость, верифицируемость (т. н. эмпиристский джастификационизм). Удивительно, но они почти не рефлексировали, что и собственный их логический позитивизм никоим образом не является обобщением каких-либо фактов, а чисто априорным предписанием, поэтому он не представляет собой науку и, следовательно, бессмыслен! Карл Раймунд Поппер (1902—1994) родился в Вене. Изучал естественные науки и психологию, готовился работать преподавателем. Одновременно был увлечен музыкой и даже хотел стать профессиональным музыкантом, но оставил эту идею, заподозрив, что недостаточно талантлив. Философией интересовался непрофессионально, однако при присущей ему основательности овладел ею в совершенстве. В молодости принимал участие в социальной работе совместно с последователем Фрейда Адлером. Через него он познакомился с психоанализом, что позже сыграло важную роль для его идеи фальсифицируемости как критерия научности.Взгляды Поппера на существо научного знания формировались под влиянием идей Пуанкаре и в полемике с логическим позитивизмом. У Пуанкаре он позаимствовал идею о том, что в основе научного творчества лежит озарение, иными словами, первичный познавательный акт — это выдвижение гипотезы. Теории, о которых писали логические позитивисты, — это теории с точки зрения логики индуктивные — выводящие общие утверждения из единичных. Возражения логическим позитивистам Поппер формулирует в виде критики индукции, указывая, что с точки зрения логики эта операция незаконна. Поппер указывает на фундаментальную асимметрию: для опровержения любой теории (как и вообще любого общего высказывания вида «Все А есть В») достаточно единичного факта, но никакое количество фактов не может доказать теорию. Столь же незаконно, указывает он, принимать теорию лишь на основании ее верификации (подтверждения). Таким образом, по Попперу, теорию нельзя убедительно подтвердить, но можно опровергнуть. Для того чтобы теория была опровергнута, достаточно единичного опровержения. Опровержение теории единичным фактом Поппер называет фальсификацией. На прогресс знания Поппер смотрит оптимистически. Развитие научного знания Поппер видит так: выдвижение гипотез — их опровержение — выдвижение новых гипотез и так далее. Если Пуанкаре в объяснении того, откуда берутся гипотезы, ссылался на работу бессознательного, то Поппер эту проблему оставил без ответа. По Попперу, чрезвычайно невероятно, что какая-либо гипотеза окажется верной на все 100 %. Он не верит в это даже принципиально, по Попперу, человеческое знание обречено оставаться несовершенным (он называет этот постулат фаллибилизмом). Свою модель роста знания Поппер назвал эволюционной эпистемологией, потому что выдвижение гипотез и дальнейший отбор из них наиболее «приспособленных» — тех, которые дольше не фальсифицируются, — напомнили ему дарвиновскую эволюцию. Подобно тому, как эволюция, по его мнению, приводит к прогрессу в организации и развитии организмов, так в процессе эволюции научных теорий выживают лучшие из них, что в целом позволяет говорить о росте знания и понимания. Отрицательно относится Поппер к конвенционализму и инструментализму. Инструментализм он объявлял несовместимым с духом научного поиска. К теории, которая объявляет себя инструментом, невозможно применить критерий научности — фальсифицируемость. Теория-инструмент не может входить в противоречие с фактами, а может быть просто не применима в какой-либо области. (Хороший пример приводит отечественный комментатор А. Л. Никифоров: если я попытался побриться топором и потерпел неудачу, то я не объявляю топор «вообще фальсифицированным»; он продолжает оставаться адекватным в собственной для него области: в рубке дров (см. 9: 63). Так можно рассуждать потому, что топор — не теория. Теория же, по Попперу, потерпев неудачу в применении к каким-либо фактам, фальсифицируется «вообще»). Для Поппера, и это очень важно, теории — не соглашения, не инструменты, а искренние попытки объяснить мир. Только при таком условии они могут быть шагами по пути бесконечного роста человеческого знания. При таком подходе, лучше совершенно ложная, но выдвинутая с серьезностью теория, нежели такая, которая оказывается правильной случайно, хотя выдвигается как конвенционалистская, из соображений удобства.Очень важную роль в его рассуждениях играет так называемая проблема демаркации. Проблему эту поставили логические позитивисты, которые пытались найти критерий отличия «настоящей» науки от метафизики. По мнению Поппера, они решили ее неверно. Они видели этот критерий (по существу, критерий эмпиричности) в том, что теория должна быть основана на фактах. Однако тот, кто вообще не приемлет законность индуктивных построений, не может придерживаться этого критерия. В качестве критерия эмпиричности/научности теории Поппер выдвигает фальсифицируемость. Теория должна быть построена так, чтобы запрещать определенные виды событий — тогда обнаружение таких событий явным образом фальсифицирует теорию. Нефальсифицируемые теории Поппер называет «метафизическими», заимствуя терминологию у Венского кружка. В отличие от логических позитивистов он не считал любые нефальсифицируемые высказывания бессмысленными. Более того, по его критерию «метафизическими» оказывались даже обычные фактуальные высказывания вида «А существует», ибо их невозможно эмпирически опровергнуть. К метафизике в собственном смысле слова, т. е. к умозрительным философским построениям, он тоже относился без осуждения. Он сам создал несколько метафизических теорий (см. далее). К чему Поппер относился с осуждением, так это к теориям, которые объявляют себя научными, но при этом на практике их нельзя фальсифицировать. В качестве примера он приводит психоанализ. Он пишет, что каковы бы ни были экспериментальные данные, психоанализ способен объяснить их все, т. е. в принципе невозможно придумать такую ситуацию, которая опровергла бы их. Теория Фрейда, так сказать, умеет идеально выкручиваться из любых ситуаций. Он пишет: «Я могу проиллюстрировать это на двух существенно различных примерах человеческого поведения: поведения человека, толкающего ребенка в воду с намерением утопить его, и поведения человека, жертвующего жизнью в попытке спасти этого ребенка. Согласно Адлеру, первый человек страдает от чувства неполноценности (которое вызывает у него необходимость доказать самому себе, что он способен отважиться на преступление), то же самое происходит и со вторым (у которого возникает потребность доказать самому себе, что он способен спасти ребенка)». Подобным же образом он трактует марксизм. Несовместимым с его моделью он объявляет также конвенционализм. Против него он выдвигает обвинение, что конвенционалистские теории, чтобы избежать опровержения, при любой фальсификации защищаются выдвижением гипотез ad hoc (подходящим к данному случаю). Не вполне ясно, следует ли это из внутренней сути конвенционализма, или Поппер заключил это из наблюдений за реальной практикой тех, кто придерживается конвенционалистских воззрений. В целом позицию Поппера в отношении науки можно охарактеризовать как призыв стремиться к постижению мира, быть смелым в выдвижении гипотез, беспощадным в их опровержении (так формулирует это Лакатос) и не поддаваться искушениям конвенционализма и инструментализма. Помимо философии науки Поппер известен как социальный философ, автор книги «Открытое общество и его враги». В ней исследуются философские истоки тоталитаризма.В книге «Объективное знание. Эволюционный подход» изложена его оригинальная — впрочем, вполне в духе философии конца ХХ в. — концепция трех автономных миров: 1). мира физических предметов; 2). мира состояний сознания; 3). мира идей/теорий. Эта концепция представляет собой логический мостик от традиционного платонизма к модной в постмодерне теории об автономии дискурса. Совместно с Дж. Экклзом Поппер написал книгу «Самость и ее мозг», в которой он обсуждает темы взаимодействия между душой и телом с позиции дуализма. Он ставит вопрос о свободе воли и совместимости этой свободы с нейронной организацией мозга, отрицая в области воли природный детерминизм. В 1962 году вышла книга Томаса Куна (1922— 1996) «Структура научных революций», которая стала следующим шагом на пути критического отношения к позитивистской трактовке научного познания. Кун придерживается исторического подхода, уделяя много внимания реальной истории науки. На первый взгляд книга его не изобилует философскими утверждениями, однако введенное им понятие «научной парадигмы» несет в себе скрытую разрушительную силу в отношении идеи прогресса научного знания. Идея Куна состоит в следующем: развитие научного знания не является кумулятивным. Оно имеет нелинейный характер и состоит из этапов, которые характеризуются не только определенным развитием собственно научной теории, но и специфической для каждого этапа организацией научной деятельности. Он выделяет «допарадигмальный» этап, а затем — череду сменяющих друг друга периодов нормального развития и кризисов. 0. Для «допарадигмального» состояния некоторой области знания характерно отсутствие единства, наличие множества школ. 1. Затем появляется парадигма. Этим словом Кун чаще всего называет научную теорию, которой придерживается большинство ученых. Два необходимых условия, чтобы теория стала парадигмой: она должна быть а) «беспрецедентной», чтобы поглотить альтернативы; б) достаточно открытой, чтобы в ее рамках могли найтись проблемы для дальнейшей разработки. Период господства парадигмы Кун называет нормальной наукой. В период нормальной науки возможен кумулятивный рост знания. В общих чертах парадигма изложена в учебниках. Для периода «нормальной науки» характерно прежде всего то, что ученые относятся с полным доверием к той парадигме, в рамках которой они работают, и если какая-либо головоломка не поддается решению, они не ставят парадигму под вопрос. Чаще всего они предполагают, что для решения ее они не имеют достаточно данных или не достаточно оснащены. Возможно, они предлагают некие дополнения к парадигме — «гипотезы ad hoc» по Попперу. 2. Накапливаются нерешенные головоломки, парадигма перестает удовлетворительно объяснять новые факты. Ученые перестают объяснять неудачи собственными проблемами и ставят под вопрос парадигму. Возникает кризис, затем наступает революция; появляется новая теория, завоевывает признание и становится парадигмой. Самым ярким признаком этого становится написание новых учебников. Во втором издании своей книги Кун подробнее останавливается на анализе философского существа парадигмы. Если в первом варианте парадигма у него — это теория, обычно классическая книга, принципы которой в течение долгого времени не оспариваются (например, «Физика» Аристотеля,«Начала» Ньютона), то во втором варианте парадигма понимается более обобщенно. Это набор правил, которыми руководствуется научное сообщество для постановки задач. Парадигма представляет собой также объяснительную схему, правила для интерпретации результатов. Иногда Кун заменяет понятие «парадигма» другими, например, понятием «дисциплинарная матрица». Итак, философское содержание теории Куна состоит в том, что наука рассматривается не как процесс накопления знания, а скорее как совокупность способов его получения и интерпретации. Кун более скептичен в отношении прогресса, чем Поппер, чья конкурентная борьба теорий все же приводила к выживанию лучших. В понятие парадигмы заложена идея полного отсутствия прогресса. Правда, следует заметить, что сам Кун эту идею не формулирует (Кун сторонился радикальных выводов и специально указывал, что считает прогресс неотъемлемым для науки). Однако он пишет о принципиальной несопоставимости парадигм, что делает их сравнение на предмет прогрессивности бессмысленным. Эта идея позже будет доведена до логического завершения Фейерабендом. Поскольку парадигма становится основной для интерпретации фактов, каждая новая парадигма считает себя лучше предыдущих. Может казаться, что она включает их в себя, становится их расширением, они же — ее «предельными случаями» (именно так обычно говорят о соотношении ньютоновской механики и теории относительности: первая является предельным случаем второй). Однако это не обязательно так. Старые парадигмы могли содержать ценные мысли, которых не содержит новая, подразумевать возможность поиска в таких направлениях, которые закрыты в новой. В теории Куна заложены семена релятивистической философии науки, которая возникла позже. Любопытно, что теория Куна стала типичной парадигмой для ее последователей, тем самым отчасти подтвердив сама себя (даже показав, что парадигмы бывают не только в эмпирической науке, но и в философии, о чем Кун не писал), а отчасти опровергнув, точнее ограничив (т. е. продемонстрировав, что учение о парадигмах, будучи само парадигмой, так же ограничено, как любая парадигма, и непременно подразумевает альтернативы себе). Настоящая фамилия Имре Лакатоса (1922— 1974) — Липшиц. Он родился в Будапеште. Взял псевдоним Лакатос (по-венгерски «столяр»), трудился на государственной службе, был репрессирован по политическому обвинению. После выхода из тюрьмы ему удается в 1956 г. эмигрировать в Англию, и он попадает к Попперу, учеником которого становится. Лакатос развивает попперовскую идею эволюционной эпистемологии, согласно которой фальсифицированные теории заменяются другими, которые до определенной поры оказываются нефальсифицированными, а затем заменяются следующими и т. д. В такой версии эта схема — прогрессистская, а новые тенденции того времени требовали усиления скептического отношения к науке. К тому же после Куна, чья книга была чрезвычайно богато иллюстрирована примерами из истории науки, философия науки все более переходила от построения идеальной методологии к анализу реальной практики и теории науки, а эта реальность не соответствует схеме Поппера. Поэтому Лакатос называет первую версию попперовской теории «наивным фальсификационизмом». В более изощренном варианте та же схема (он приписывает ее идею также Попперу, но Поппер ее не развивал) выглядит следующим образом. Разви-тая научная теория состоит из «твердого ядра» и «защитного пояса». В твердое ядро теории входят принципиальные для нее положения, фальсификация которых требует отказа от теории. Защитный пояс формируется из положений и гипотез, принимаемых для защиты твердого ядра ad hoc (Поппер таких гипотез не признавал). Защитный пояс, таким образом, может меняться без изменения твердого ядра, твердое ядро и защитный пояс методологически неоднородны. Модель Лакатоса сложнее модели Поппера. Поэтому он перестает говорить просто о теории и вводит понятие исследовательской программы. Каждая программа в своем твердом ядре содержит творческий потенциал — перспективу постановки задач и новых оригинальных гипотез (Лакатос называет его «позитивная эвристика»). В процессе постановки и решения этих новых задач может потребоваться некоторое преобразование программы, необходимость которого принимает на себя защитный пояс. Так осуществляется некоторое видоизменение всего комплекса исследовательской программы, продвижение ее вперед. Лакатос пишет о «позитивном сдвиге проблем», т. e. o возможности исследовательской программы давать новое эмпирическое знание. Именно возможность позитивного сдвига отличает хорошо работающую, продуктивную исследовательскую программу. Вместе с тем защитный пояс состоит также из гипотез, введенных для защиты твердого ядра от фатальных фальсификаций; по существу, такие гипотезы не являются творческими, они составляют некий балласт программы (Лакатос называет это «негативной эвристикой»). При превышении доли негативной эвристики над позитивной программа приходит в состояние застоя и кризиса. Возникает «регрессивный сдвиг проблем». Следующим шагом Лакатоса на пути построения его философии науки стало обращение к истории науки. Его теория истории науки слагается в полемике с Куном, идеи которого Лакатос считает слишком иррационалистическими. В реконструкции истории науки он вводит две части — внутреннюю и внешнюю, подобно двум частям исследовательской программы. Внутренняя история науки слагается из такой истории научных идей, которая может быть рационально реконструирована на основе анализа самих идей. Внешняя история включает в себя «посторонние» с точки зрения логики идей факторы — во-первых, случайности, которых много в любой истории, в том числе в истории науки, во-вторых, внешние влияния на науку, например, со стороны культуры, политики и так далее. Лакатос рассматривает четыре типа философских платформ, на основании которых можно строить и философию науки, и ее историю. При этом он указывает, что только та платформа хороша для построения философии науки, которая эффективна для реконструкции ее реальной истории. Эти типы: 1.Индуктивизм (иногда в сходном значении он употребляет термин «джастификационизм»); 2. Конвенционализм (из подходящих теорий выбирается более простая); 3. Фальсификационизм (в наивном виде); 4. Его собственная методология исследовательских программ. Легко показать, пишет Лакатос, что первые три платформы не пригодны для реконструкции реальной истории науки, так как наука никогда не развивалась ни по законам индуктивизма, ни по законам конвенционализма, ни согласно предписаниям попперовского фальсификационизма. На основе же методологии исследовательских программ, считает Лакатос, историю наукиреконструировать можно. Эта методология сложнее и потому более гибкая, она допускает многочисленные отклонения от того пути, который ретроспективно кажется оптимальным, но при этом не объявляет неоптимальное движение нерациональным. Особенно гибким исторический метод Лакатосу позволило сделать его различение внутренней и внешней истории науки; хотя уже само понятие исследовательской программы столь реалистичное и гибкое, что позволяет включить во внутреннюю историю то, что при более жестких методологиях (особенно индуктивистской) неизбежно пришлось бы отнести к внешней истории. Например, так обстоит дело с противоречием между тем, что предсказывает теория, и тем, что реально наблюдается. С точки зрения остальных трех методологий развитие ученым теории, которая допускает подобные противоречия, нужно объявить иррациональным. Но поскольку методология исследовательских программ выделяет в теории жесткое ядро и защитный пояс, она может отнести противоречие в область защитного пояса и совершенно справедливо показать, что зачастую противоречие с фактами стимулирует развитие теории, способствует «позитивному сдвигу» программы. Лакатос идет настолько далеко, что пишет: «Любая теория рождается в океане противоречий», — и не находит это положение противоречащим рациональности. Лакатос хотел создать такую теорию науки, которая, с одной стороны, соответствовала бы канонам рациональности в широком смысле слова, т. е. позволяла рассматривать науку как инструмент познания, приближения к истине. В этом он следует Попперу. С другой стороны, он стремился к тому, чтобы его теория науки, будучи применена к реконструкции истории науки, не шла вразрез с реальностью. Реальность же науки непроста. Решение, которое предложил Лакатос, — рассматривать не научные теории, а исследовательские программы — сложно, во всяком случае сложнее, чем упрощенные модели многих других философов науки. Но, по-видимому, среди всех рациональных учений о существе науки его можно считать оптимальным. Хотя Пауль (Пол) Фейерабенд (1924—1994) — современник и ровесник и Лакатоса, и Куна, его взгляды на теорию науки намного ближе к идеологии постмодерна, с характерным для нее скепсисом в отношении познания истины. Они представляют собой попытку доведения до логического конца тех путей мысли, которые были намечены до него. В отличие от рассмотренных ранее мыслителей Фейерабенд — антисциентист. Он не видит блага в научно-техническом прогрессе и склонен подчеркивать зло, которое может нести с собой наука и ее применение, — от загрязнения окружающей среды до изгнания «донаучных» типов знания и утраты тех ценных идей, которые, возможно, в них содержались. Он — типичный представитель шестидесятников, исполненных бунтарских настроений в отношении всего, что только допускает бунтарское умонастроение. Такая позиция в отношении ценности науки дает ему возможность критиковать ее слабость в деле познания истины более свободно и беспощадно, чем это удавалось его предшественникам. Если Лакатос продолжал линию Поппера, то Фейерабенд продолжает линию Куна, Он берет у него понятие парадигмы — не уставая при этом это понятие критиковать, но отбрасывает всякую мысль о возможности познавательного прогресса. Он развивает идею о принципиальной несоизмеримости и несопоставимости парадигм. Фейерабенд приводит много аргументов в пользу такой несопоставимости. Например, указывает он, теории всегда оказывают обратное влияние на наблюдаемые факты (эта мысль былаи у Поппера); в разных теориях даже одни и те же на вид термины получают разное определение; у двух теорий нет общей, так сказать, «субстанции», где они могли бы встретиться для сравнения. Они могут бороться друг с другом не с помощью аргументов, поскольку принципиально не способны понять аргументы друг друга. Поле борьбы у них — вненаучное и внерациональное (например, мода). Фейерабенд проницательно пишет о невозможности создать единый и ясный язык для науки, к чему стремились логические позитивисты. Возможно даже, замечает он, что явное определение изменяет смысл определяемого слова. Тем более разными становятся значения слов и предложений — в т.ч. предложений наблюдения — в зависимости от разных контекстов, от теоретической нагруженности и т. д. (эта мысль появлялась уже у Поппера). В качестве двух принципов, с помощью которых можно описать развитие науки, Фейерабенд предлагает принцип пролиферации (размножения) гипотез и принцип упорства теории. Он соглашается с Куном в том, что существуют периоды нормального развития науки и периоды революций. Упорство теории характерно для первых периодов, пролиферация гипотез — для вторых. Упорство, с одной стороны, и пролиферация — с другой — в целом составляют своеобразную диалектику. Однако Фейерабенд не ставит эту диалектику в зависимость от согласия теории с фактами. Он не пишет, например, что пролиферация гипотез начинается вследствие кризиса теории, вследствие того, что теория перестает объяснять новые наблюдения и т. п. Борьба упорства с пролиферациями составляет внутреннее существо науки. Это, так сказать, игра научных страстей, не имеющая отношения к предмету познания. Естественным в этой связи выглядит обращение Фейерабенда к социальной реализации науки, к ее организации с точки зрения распределения власти, идеологических влияний и так далее. Фейерабенд впервые ставит вопрос: что есть наука как культурное, социальное и политическое явление. Сам он дает типично антисциентистские ответы, например, он пишет: «Освободим общество от власти науки, как наши предки освободили нас от власти Единственной Истинной Религии». Большое направление эмпирической социологии — социология науки — естественным образом включается в эту же линию, мыслящую науку как социальное явление, а не как орган постижения истины, чьи характеристики следует выводить из его предмета. Линия Кун — Фейерабенд — социология науки выводит характеристики науки из характеристик не предмета науки, а тех, кто в ней работает, и их сообществ. Выше были кратко рассмотрены теории Поппера, Лакатоса, Куна и Фейерабенда. Ими, разумеется, не ограничивается список мыслителей, которые в середине и в начале второй половины ХХ в. подвергли переосмыслению классическую философию науки. Майкл Полани (1981 — 1976) ввел понятие «скрытого знания» (tacit knowledge), которое всегда присутствует в работе ученого и может значительным, но неявным ему самому образом направлять его мысль. Курт Хюбнер (род. 1921) заострил вопрос о близости научного мышления к мифологическому и обусловленности науки каждой эпохи ее культурными особенностями. М. Фуко, принадлежащий, правда, другой традиции и не пользовавшийся понятиями постпозитивизма, но идейно близкий к нему — указывал на тесную связь знания с властью, на зависимость науки от ее социальной организации и т. п. Фуко показывал это на примере психиатрии (что, несомненно, выигрышнее, чем физика). В восьмидесятые годы критический накал в отношении науки уменьшился, постпозитивизм как цельное течение сошел на нет. Мы видели, что в постпозитивизме можно выделить две линии, одна из которых возводится к Попперу, другая — к Куну. Для линии Поппера характерно внимание к эпистемологическим вопросам, отсутствие крайнего скепсиса, в целом позитивное отношение к такому предприятию человеческого разума, как научное знание; анализ разных типов рациональности именно как рациональности. Поэтому всю линию в целом можно условно назвать рационалистической. Та линия, которую начал Кун, в конце концов пришла к полному скепсису в отношении научного знания. Она занимается изучением науки как социального или политического предприятия, оставляя почти без внимания рационально реконструируемое познавательное движение. Из нее вышла современная социология науки. Для некоторых ее представителей характерен антисциентизм. Очень грубо ее можно назвать иррационалистической, хотя нужно при этом иметь в виду, что по своим методам эта философия сама никоим образом иррационалистической не является, это слово означает здесь только то, что она занимает более или менее скептическую позицию в отношении научной рациональности. Литература1.Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М., 1983. 2.Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 1 — 2. М., 1992. 3.Popper К. R., Eccles J. С. The Self and its Brain. An Argument for Interactionism. B. N.Y. L., 1977. 4.Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ // Т. Кун. Структура научных революций. М., 2001. 5.Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Т. Кун. Структура научных революций. М., 2001. 6.Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 7.Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. 8.Полани. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. 9.Никифоров А. Л. От формальной логики к истории науки. Критический анализ буржуазной методологии науки. М., 1983. 10.Современная философия науки: знание, рациональность ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия / Под. ред. А. А. Печенкина. Вступительная статья и комментарии А. А. Печенкин. М. 1996. 11.Структура и развитие науки. М., 1978. Глава 21. СТРУКТУРАЛИЗМ Направление в гуманитарных науках, получившее в более поздней классификации обозначение структурализма, появилось в начале ХХ в. и было связано прежде всего с концепцией структурной лингвистики швейцарского лингвиста и философа Фердинанда де Соссюра (1857 — 1913). Эта концепция существенно повлияла на антропологические исследования Клода Леви-Строса ( 1908 — ), единственного, кто сам называл себя структуралистом, психоаналитическую теорию Ж. Лакана (см. главу «Психоанализ»), эпистемологическую концепцию знания Мишеля Фуко (1926 — 1984), литературную критику Ролана Барта (1915— 1980) и многих других. Проблема структуры. Основанием отнесения к структурализму стало внимание к понятию «структура» и проблеме, с которой было связано определение «структуры». Впервые термин зафиксирован как философский в работе Лаланда «Философский словарь технических и критических терминов» (1926, переизд. 1986, 2004): структура — то целое, что состоит в связи между отдельными ее частями и из отношений между ними. Оно является своеобразным итогом определений, существовавших в архитектуре, где структура рассматривалась как взаимосвязь частей и целого, и в биологии, где она определялась как органическое единство между частями. Верное по сути, т. е. приложимое к любому типу организации, это определение не фиксировало различия исследовательского — методологического — порядка: что в исследовании организации дается на эмпирическом уровне, а что вводится в ходе теоретической реконструкции. Дискуссия развернулась во второй половине ХХ в. и в рамках определения структуры в антропологии: Альфред Рэдклифф-Браун в своей статье «О социальной структуре» (1940) сделал вывод о том, что социальная структура — это совокупность социальных отношений, организованных как система, а значит, что ее можно обнаружить в результате эмпирических исследований так называемой социальной организации. Клод Леви-Строс, опираясь на определения, которые были даны структурной лингвистикой, сформулировал свою, противоположную позицию: социальная структура — модель, которая строится на основании исследования эмпирической реальности, представленной совокупностью социальных отношений. Леви-Строс опирался на один из аспектов определений, введенных в научный оборот 1928 г. Р. Якобсоном совместно с Н. Трубецким и С. Каржевским на основе идеи системности де Соссюра: асинхроническая целостность с инвариантными соотношениями элементов. Это перекликалось с понятием структуры, которое разрабатывалось математиками кружка Бурбаки: структура — это форма константных соотношений терминов в аксиоматически определенном множестве. Леви-Строс подчеркивал, что цельсоциально-структурных исследований состоит в том, чтобы понять социальные отношения с помощью моделей. Однако понимание структуры как модели теоретического конструирования привело к дальнейшим дискуссиям — уже 70-х гг. Основной вопрос этих дискуссий сводился к тому, можно ли понимать структуру как форму и делать соответствующие выводы о ее соотношении с содержанием. Леви-Строс считал, что форма сама определяется своеобразной противоположностью материалу, а у структуры нет иного содержания, чем логическая организация реального. На этом основании он критиковал В. Проппа за формализм. Пропп, предлагая концепцию своей «Морфологии волшебной сказки», и А.Ж. Греймас, излагая концепцию семиотического поля, исходили из того, что структура — это некая универсальная форма, которая может быть приложена к любому содержанию. Другие исследователи, например Мишель Серр, считая, что любое содержание культуры может быть исследовано только как структура, соглашались с Леви-Строссом, что математический индифферентизм неприменим к социальному содержанию. Структурная лингвистика Ф. де Соссюра. Философское значение концепции языка Ф. де Соссюра состоит в том, что именно в лингвистике и применительно к языку были сформулированы основные идеи противопоставления эмпирического анализа единичного как части системы и структурного анализа системы как целостности и ее внутренней самообусловленности. Именно Соссюр ввел определение языка как системы знаков. Значение отдельных знаков определяется их положением в системе. Под языковым знаком понимается физический объект, представляющий единство означаемого (того, к чему отсылает знак, предмет мысли) и означающего (обозначение предмета мысли), как объяснял Соссюр — как две стороны одного бумажного листа. Значение слова (знака), таким образом, определяется не предметом, к которому это слово отсылает, и не индивидом, который это слово употребляет, а тем смыслом, который является результатом взаимодействия слов в языке, т. е. от структуры языка. Показательно, что Соссюр различал индивидуальное говорение — речь — от языка как целостной системы, которая существует независимо от индивидуальных актов высказывания. Без языка не может быть речи. Получалось, что язык говорит посредством индивидуального говорения, но индивид бессознательно использует внеличностную структуру языка. Эта идея, контекстуально содержавшаяся в концепции Соссюра, позже была развита в так называемых постструктуралистских концепциях, где воле отдельного индивида противостоит безличная власть языка. Для последователей Соссюра это означало, что лингвистика должна изучать не отдельные знаки, а их соотношение в системе. В качестве иллюстрации Соссюр приводит пример ценности шахматной фигуры в ходе шахматной игры: она определяется ее положением по отношению к другим фигурам на поле и их совместным взаимоперемещением. Но тогда следует различать различные подходы к исследованию языка. Соссюр вводит понятия диахронии и синхронии применительно к языку. Синхроническая лингвистика изучает сосуществование явлений в рамках одной системы вне временных изменений как единое целое. Диахрония представляет явления как последовательную цепь изменений, предметом интереса становится связь отдельных элементов, следующих друг за другом во времени. Эти идеи были изложены в главном труде Соссюра «Курс общей лингвистики» (1916), который был подготовлен его учениками по материалам его лекций 1908 года. Таким обра-зом, с точки зрения Соссюра, исследование образования значения должно рассматриваться не исторически, а функционально — с точки зрения отношений в системе, в том числе и негативного соотношения с другими элементами системы (хрестоматийным примером, содержащим и новую проблему, связанную со структурными определениями значений, считается значение слова «мальчик», которое имеет смысл только по отношению к тем словам, которые обозначают объекты, которые мальчиками не являются). Эту работу развернули члены Пражского лингвистического кружка (1929—1939) — Н. Трубецкой, Р. Якобсон, В. Матезиус. Из их концепций вырастает направление так называемой функциональной лингвистики, которая все больше противопоставляет планы содержания и выражения и исследует то, как существует язык в его литературном выражении, как социально-историческое единство. Под влиянием в том числе этих идей появляется так называемая гипотеза лингвистической относительности Сепира — Уорфа, согласно которой определяющим для типа языка является тип общественной организации, тип коллективного поведения, обусловливающий тип мышления. Развитие современной лингвистики как семиологии, отталкивающейся от принципа синхронического исследования объективно существующего языка как системы знаков, предполагало движение от описания языка к теоретическим моделям языка, в которых описывались бы общие свойства языка: дескриптивная лингвистика включает в себя как теорию уровней языка (Блумфильд, Хоккет), так и исследование нелингвистических факторов (Энн-Арборская группа), опирающееся в том числе и на концепцию Сепира, вплоть до исключения фактора значения из лингвистического исследования (Йельская школа). На первый план выходит проблема разведения в лингвистическом исследовании «субстанции» и формы — здесь функциональная лингвистика тесно смыкается с различными вариантами того, что получило условное обозначение глоссемантики (к этому направлению относят Копенгагенскую школу лингвистики и прежде всего Л. Ельмслева (1899 — 1965), продолжавшего исследования в области языка науки Б. Рассела, А. Уайтхеда, Р. Карнапа). Но наиболее очевидно для гуманитарного знания в целом стало влияние идей структурной лингвистики Соссюра в сфере антропологии. Структурная антропология К. Леви-Строса. Леви-Строс совершил настоящий переворот в исследовании культуры первобытных народов, которая до него определялась в основном по ее негативным признакам — бесписьменная, неиндустриальная, нецивилизованная и т. п. Например, с точки зрения Л. Леви-Брюля, автора книги «Первобытное мышление» (1910), между нашей культурой и культурой архаической лежит пропасть разных ментальностей — логической и дологической. Структурный подход позволил рассмотреть культуру как единую систему смыслов. В знаменитых книгах «Печальные тропики» (1955) и «Структурная антропология» (1957), а позже в своей работе «Первобытное мышление» (1962) Леви-Строс предложил объективные методы исследования, взяв за основу семиотические методы — язык рассматривался как система бессознательно функционирующих означающих культуры. В мифах, ритуалах, правилах брака, терминах родства — везде мы можем вычленить бинарные оппозиции, на которых выстраиваются «пучки дифференцированных признаков». Леви-Строс сосредоточился на конкретном материале, который доказывал связь языка с социальными обычаями племен — он обнаружил, что система родства организована так же, как система фонем. То есть то, как понимаются фонемы — гистемы, — соответствует системе фонем. Так, в «Ми-фологиках» (1964, 1966, 1968, 1971) поэтапно рассматривается дихотомия сырое — приготовленное, закрепленная в языках и, соответственно, ритуалах и первичных мифах южноамериканских племен, которая на практике выстраивает цепь означающих, наделяющую различную деятельность более глубоким ритуальным смыслом: несъедобное — съедобное, недоступное — доступное для совокупления, животное — растительное, природное — культурное, утраченное — приобретенное и т. д. Исходное противопоставление «обрастает» новыми смыслами — приготовленное наполовину, пережженное, свежее, сгнившее. Соединение гистем определяет еще более подвижные смыслы — мифемы, смысл которых есть соотношение значений, которые использованы в них. Значение, таким образом, оказывается частью системы, которую следует понимать целостно, из отношений внутри системы. Это позволяет говорить об антропологии, которая основывается на полевых этнографических исследованиях. Синтез соматических характеристик этнологии приводит к целостной культурной и социальной антропологии. Социальная антропология с помощью социологии и психологии рассматривает предметы материальной культуры как специфичные социальные явления, как об этом писал Э. Дюркгейм, т. е. с точки зрения выполняемой общественной функции, как социальный фактор. Личностное, таким образом, понимается как обобщенное и опосредованное вещами, как означающее, которое должно быть изучено самостоятельно. Культурная антропология, привлекая данные археологии и лингвистические концепции, представляет систему отношений, связывающую между собой все аспекты социальной жизни, — эта система, с точки зрения Леви-Строса, играет более важную роль в передаче культуры, чем каждый из ее отдельных аспектов. Идея целостности этой системы во многом, как об этом писал позже М. Мерло-Понти, была инспирирована идеями Марселя Мосса (1872— 1950). Другим предшественником структурной антропологии сам К. Леви-Строс считал Ж. Дюмезиля, автора целого ряда работ по сравнительной мифологии (например, «Индоевропейское наследство Рима» (1949)). Мосс, чье влияние распространяется и на постструктуралистские идеи, в своих работах «Опыт о природе и функции жертвоприношения» (1899), «О некоторых примитивных формах классификации» (в соавторстве с Э. Дюркгеймом — 1901 — 1902), «Опыт о даре» (1825) подчеркивает культурную обусловленность естественных функций и привычек человека, символический характер практик обмена, прежде всего практики дарения. Мосс обнаружил, что в племени тана не было определенных значений для обмена дарами — каждый раз дар определялся участвующими сторонами, конкретной ситуацией общения, произнесенными речами, демонстрацией отношения к другой стороне и т. д. Мистическая сущность дара, жертвоприношения показывает, что суть человеческих отношений — обозначение поля возможных смыслов, то, что будет позже обозначено Ж. Батаем как трансгрессивность — возможность преодолевать фиксированные значения. У Р. Жерара в «Фундаментальной антропологии» эта идея развивается до детализированной теории социализации как двойного замещения вездесущего насилия, своеобразного мимезиса репрезентации желания. Структурализм в литературоведении и постструктурализм. Показательно влияние идей структурализма в литературоведении и философии литературы, которая все больше смыкается с психоанализом и собственно философской проблематикой. Ролан Барт (1915— 1980), один из основателей Центра по изучению массовых коммуникаций (1960) и руководитель кафедры литературной семиологии, в первой же философской работе «Исходный / Нулевой / уровень письма» (1953) заявил основную тему этой философии: «трудность литературы заключается в том, что она вынуждена самовыражаться посредством несвободного письма». Показательна литературоведческая деятельность целого ряда философов, связанных с идеями структурализма — это история журнала «Тель-Кель», издававшегося с 1960 по 1983 г., объединившего в числе своих сотрудников Р. Барта, Ф. Соллерса, Ю. Кристеву и др. и, по сути дела, сформировавшего умонастроение французской интеллигенции как структуралистское. С 1963 г. вокруг нового редактора Ф. Соллерса объединяются такие писатели, как Ж. Рикарду, Ж. Тибо, Ж.-П. Фай, поэты Д. Рош, М. Плене, а также философы Р. Барт, Ж. Деррида, П. Булез, Ю. Кристева (с 1970 г. — член редколлегии). Задача, декларированная в 1964 г., связана с попыткой представить систему символических образов современной литературы. Сотрудники журнала опираются на идеи структурализма и психоанализа. Работа критика оказывается тождественна работе писателя — оба созидают смыслы. Журнал открывает теоретическую полемику по таким темам, как новый роман, сюрреализм, марксизм. Выходит несколько страноведческих выпусков — о Китае, Алжире и др. Следующие работы Р. Барта, посвященные Мишле (1954), Расину (1963), иллюстрируют метод так называемой «новой критики», активно использующей психоаналитическую теорию и основывающейся на понимании символической природы произведения. «Новая критика» поставила задачу рассмотрения целостности литературного произведения, и поэтому центральной становится проблема специфики объекта литературной критики — средства выражения, язык, т. е. то, чем пользуется сама критика. В этом смысле новый критик оказывается писателем. С точки зрения Барта, это закономерный процесс «консолидации внутри двойственной — поэтической и критической — функции письма», но это одновременно и революция в культуре — смещение самого принципа «иерархической организации ...типов письма». Источником «объективности» новой науки о литературе должна стать «интеллигибельность», заключенная в объективности символов — «лингвистика дискурса» должна будет соответствовать вербальной природе литературы. Это означает, что такая наука будет «описывать логику порождения любых смыслов таким способом, который приемлем для символической логики человека». В связи с этим Барт разрабатывает новаторскую концепцию информативного изображения, в которой проводит анализ различных типов сообщений и делает вывод об особой роли символического сообщения, анализом которого призвана заняться риторика образа, тесно связанная с идеологией. Целый ряд статей Барта стали «программными»: «Воображение знака» (1962), «Структурализм как деятельность» (1963), «Основы семиологии» (1965). Язык рассматривается как инструмент конституирования культурных значений и в этом смысле никогда не может быть рассмотрен как деполитизированный, свободный. Материалы становятся более политизированными, для журнала второй половины 60-х гг. характерно сочувствие коммунистическому движению, после разрыва отношений с французской компартией в 1971 г. — сближение с маоизмом (представители журнала были даже приглашены в Китай в 1974 г.). Растет популярность журнала среди студентов, а с ней и тираж (огромный для подобного рода изданий — 4 тысячи экземпляров, отдельные номера, например, посвященные Барту, и страноведческий номер о Китае — 10 тысяч).Барт рассматривает функционирование различных мифов в обществе, систему значений, навязываемых в различных формах человеческой жизнедеятельности: «Мифологии» (1957), «Элементы семиологии» (1964), «Система моды» (1967). Большой вклад внес Барт в так называемую метариторику как принципиальной постановкой проблемы места риторики в семиотическом проекте, так и конкретными исследованиями риторических вторичных кодов. Исследователи считают период с 1967 г. постструктуралистским, связывая это с изменением философской позиции Р. Барта, с активными выступлениями Ж. Деррида. Однако еще в 1968 г. выходит собрание эссе, ставшее своеобразным политическим манифестом — его название — «Теория единства», а после майских событий редакцией журнала организуется теоретический семинар. Последние номера «Тель-Кель», посвященные Джойсу и страноведческий — США, вышли в 1982 г. Новый этап в философии Барта знаменует собой работа «С\3» (1970) — исследование текста Бальзака приводит Барта к рассмотрению проблемы сексуальности и кастрации и выводу о множественности возможных кодов, содержащихся в тексте. Эссе, посвященные де Саду, Фурье, Лойоле ставят Барта над новой критикой: он приходит к выводу о конце исторического мифа об авторе и произведении, а также о произведении и критике. Задачей семиологии становится снятие закрепленной иерархии жанров и лежащего в их основе нарратива — метатекста, предписывающего построение текстов. В работах «Удовольствие от текста» (1973) и «Ролан Барт о самом себе» (1975) Барт приходит к идее сосуществования, взаимопроникновения читателя и текста, которое дает намного больше, чем простое знание, — дух человечества. Литература1.Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1999. 2.Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. 3.Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 2001. 4.Леви-Строс К. Мифологики: В 4 т. Том 1. Сырое и приготовленное. М.; СПб., 1999. 5.Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. 6.Барт Р. Избранные работы: Семиотика, Поэтика. М., 1989; 2-е изд. 1994 7.Структурализм: «за» и «против». М., 1975. 8.Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М., 1977. Глава 22. ПОСТМОДЕРНИЗМ В последнее время для обозначения специфики мировоззренческих установок новейшей, «постсовременной» культуры в целом, связанной прежде всего с поливариантным восприятием мира, а также с акцентированной проблемой самоидентификации культуры, используют термин «постмодернизм». Широко используемый как интердисциплинарный, он до сих пор не имеет однозначного определения, и функционирует одновременно как внешнее исследовательское определение и как внутренний конституирующий принцип, реализующий себя в различных сферах человеческой деятельности — искусстве, политике, экономике, философии, литературе, психологии, науке и так далее. Более широко, словами У. Эко, культура постмодерна предлагает особый язык, способный описать ее собственные достижения. В связи с реализацией этой задачи теоретиками философского постмодернизма считают философов-нео- (или пост-) структуралистов: М. Фуко (позднего периода), Ж. Деррида, Р. Барта (позднего периода), Ж. Лакана (позднего периода), Ф. Гваттари, Ж. Делёза и др. — тех, кто предложил новую, в отличие от структурализма небинарную стратегию исследования текста. Часто под постмодернизмом понимают движение деконструктивизма, в узком смысле этого термина — практику анализа постмодернистских художественных текстов (развитую прежде всего в США Йельской школой), более широко — практику анализа любых явлений как текстов, пользуясь методикой, в основе которой лежит метод деконструкции, предложенный Деррида, как метод восстановления смысла текста путем обнаружения связанных с ним других смыслов, других текстов. С точки зрения постмодернизма лишь такой подход демонстрирует наглядно — в деконструктивистской практике — бесконечную природу мышления, его процессуальный, динамический характер: философия находит адекватный инструмент для исследования самого философского мышления. «Постмодернизм» этимологически закрепляет не только постериорное отношение новейшей культуры и философии к культуре и философии модерна, но и рефлексию, по большей части критическую, по отношению к предшествующему способу существования в культуре и философии. Постмодернизм предполагает принципиально новый, не приемлющий статики и однозначных определений взгляд на мир. В общефилософскую позицию эта идея превращается на основе теории новейшего, прежде всего неоавангардистского искусства и культуры. Считается, что первым термин «постмодернизм» употребил — как уничижительную характеристику человека декаданса Р. Панвиц в работе «Кризис европейской культуры» (1917). В современном значении как обозначение специфики культуры периода после Второй мировой вой-ны — он появляется в работе Ч. Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма» (1975) для определения всеядности архитектурного стиля, появившегося в конце 60-х — начале 70-х гг. Затем термин распространяется на изобразительное искусство как легитимация эксперимента с цветом, формой и даже жанром, на литературу как констатация появления «нового романа» и его влияния на стилистику художественного текста. Но главным оказывается принципиально новый подход к субъекту культуры — нет предданного, «готового» зрителя или читателя, как нет и неизменного, «культового» автора. Основные категории теории культуры размываются, само понятие культуры оказывается предельно общим, не считая нужным выделять ни концептуальное, ни ценностное ядро. Общество, культура, словами Ж. Деррида, «децентрируются». То, что было в центре искусства модерна — субъективное, — тоже понимается как изменчивое и относительное. Субъект «наименовывает» себя в процессе общения, восприятия и экспрессии. Самоидентификация субъекта — то, что для традиционных концепций было условием существования и понимания культуры, — в постмодернистской перспективе оказывается исходным мотивом. И как со времен Вавилона нет единого языка (один из любимых образов философа постмодерна Ж. Деррида), так нет единого способа самовыражения: как писал Р. Барт, «число языков равно числу желаний». Поэтому нет и не должно быть одного метода, стиля. Как не может быть единственно верного варианта интерпретации, так и не должно быть единого метода этой интерпретации, на котором строились бы единообразные, а значит, иерархические социальные отношения. Постмодернизм пытается избежать главной опасности тоталитарного мышления — политического тоталитаризма. Не случайно распространение термина «постмодернизм» на философию связано с появлением работы Ж. Ф. Лиотара «Ситуация постмодерна» (1979) и его определением основной проблемы современной философии как проблемы «философствования после Освенцима». Лиотар полемизирует с Ю. Хабермасом, считавшим преступления ХХ в. века следствием неправильной реализации просветительского проекта построения единого мира и видевшим задачу культуры в восстановлении ценностей модернизма. В интерпретации Ж. Ф. Лиотара, Освенцим — результат реализации проекта модерна, и выходом является кардинальное изменение восприятия мира: переход от иерархии, устанавливаемой метадискурсом «больших нарраций» (здесь используется литературоведческий термин, обозначающий повествовательный уровень, т. е. определенную — в данном случае иерархическую — организацию текста и закрепленную в нем речевую деятельность), к принятию множественности самостоятельных и равноправных элементов, существующих в виде полиморфных и диверсивных языковых игр. Меняется и статус философии: постмодернистская «парадигма» философии парадоксально оказывается началом разрушения парадигмального способа мышления. Центральной проблемой становится проблема осмысления текста. Постмодернизм исследует текст, как это уже принято в философии ХХ в., но не в том альтернативном аспекте противопоставления объективного — субъективному, замысла созидающего текст — позиции воспринимающего, а с точки зрения естественного единства того и другого. Идеи философии постмодерна появляются на основе ауторефлексии структурализма и феноменологии: центральным становится вопрос о многозначности тех определений, которые появляются в конституированном со-знании. Одним из тех, кто наиболее точно в этом смысле подвел итог философских поисков первой половины ХХ в. был французский феноменолог-экзистенциалист Морис Мерло-Понти (1908—1961). В своих основных работах — «Структура поведения»(1942), «Феноменология восприятия» (1945), «Смысл и Бессмыслица» (1948), «Приключения диалектики» (1955), «Знаки» (1960), «Видимое и Невидимое»(1961) и др., основываясь на феноменологической методологии, подвергая при этом критике определение чистого сознания, симпатизируя марксистскому анализу исторической реальности, не принимая при этом экономического объяснения истории, М. Мерло-Понти создал свою версию «философии экзистенции», в 50-е гг. противопоставив ее экзистенциализму, сохранявшему, по мнению Мерло-Понти, метафизический, т. е. антитетический способ постановки философских вопросов: либо в «идеалистической» традиции, рассматривающей любой объект как объект сознания; либо в «реалистической», понимающей сознание как продукт реальности. Мерло-Понти пытается преодолеть противопоставление свободы и необходимости, объективного и субъективного. Не случайно Мерло-Понти апеллирует к работам М. Мосса и других этнографов, обнаруживших относительность тех понятий и ценностей культуры, которые мы традиционно считаем универсальными и абсолютными. Центральной проблемой становится восприятие и описание пережитого опыта: философия Мерло-Понти эволюционирует от анализа восприятия к анализу видения и идее «плоти», снимающей противоречие между субъектом и объектом, и восстанавливающей, по мысли Мерло-Понти, онтологический статус воспринимаемого мира. Интенциональный мир представляется как уже дорефлексивно наличествующий, а не конституирующийся в процессе рефлексии. Субъект, определяемый как «трансценденция к миру», вписан в конкретный исторический, культурный, наконец, биологический контекст, смысл которого он может осознать даже для самого себя только через столкновение своего опыта с опытом других. Мир понимается как «символ» взаимопроникновения, «междумир», связывающий Я и других людей, человеческое сознание и природу. Социальная философия Мерло-Понти оказывается прежде всего философией интерсубъективного опыта человека. Особое значение придается «живому языку, существующему в языковом сообществе». Подобно телу, он соединяет в себе объективное и субъективное, будучи не только закрепленной системой форм выражения, но и «актом означения», который Мерло-Понти связывает с живым творческим речевым актом — «плавающее означающее», обнаруженное в первобытных культурах М. Моссом. Исследование лингвистических связей между людьми должно прояснить, по мысли Мерло-Понти, общий закон символических отношений в рамках единой истории. Мерло-Понти предлагает новое настроение: «понимания без принятия, свободы совести без шельмования» в политике и «множественности перспектив» в философии, — получившее у исследователей определение «философии двусмысленности», или «философии обращаемости понятий». Своеобразной яркой реализацией этого завета стала творческая деятельность Жоржа Батая (1897 — 1962), который в своих художественных произведениях (под псевдонимами выходит целый ряд работ достаточно смелого содержания, например «Синь небес», «История глаза» и др.), в литературной критике (знаменитая «Литература и Зло» выходит в 1957 г.), в социально-политических исследованиях (например «Психологическая структура фашизма», 1933), в выступлениях о современном сюрреалистическом искусстве (Батай —один из авторов «Второго манифеста сюрреализма») и философских работах (прежде всего «Внутренний опыт», 1940) обратился к проблеме границ допустимого и перехода, выхода за эти границы. Вокруг произведений Батая каждый раз разворачивалась острая дискуссия, где М. Бланшо, М. Лейрис, а однажды и М. Хайдеггер были на его стороне, а Ж.-П. Сартр — на противной. Вызов, порыв — в противовес регулярности и определенности, — это традиционно рассматривалось как зло, однако, с точки зрения Ж. Батая, именно пределы и оказываются не определены жестко ни человеческой культурой, ни человеческой психологией. Отталкиваясь от идей Бергсона, Ж. Батай сформулировал вывод о том, что проблема трансгрессии (термин заимствован у Гегеля — Батай был одним из слушателей интерпретации «Феноменологии духа» А. Кожевом) связана с внутренней неопределенностью, двусмысленностью и противоречивостью границ. Культура определяет границы, включая в это определение саму возможность нарушения этих границ. Одним из первых французских философов, проделавших путь от структурализма к постструктурализму и, по сути, распространившим новое умонастроение за пределы Франции, был Мишель Фуко. Его жизнь стала примером перехода всех границ, характеризующих слишком стремительное освобождение от запретов, — он умер от СПИДа, которым он заразился в садомазохистских экспериментах в Сан-Франциско (США). С первых же работ 50-х гг. М. Фуко исследует различные способы психологического самовыражения человека — прежде всего воображаемое, сновидения и т. д. — как формы опыта, всегда связанные с «проговариванием» и «обозначением». Однако первой зрелой работой сам Фуко считал «Историю безумия в Новое время» (1961), в которой он выделяет специфическую область интересов, характерную практически для всех его исследований — историю «мутации» идей. Смысл каждой идеи, существующей в культуре определенного исторического периода, оказывается необходимо обусловлен всем контекстом функционирующих в данный момент смыслов, и его определенность формируется в виде значимой для этого культурного периода оппозиции: с точки зрения Фуко, для Нового времени характерна сформировавшаяся к XVII в. оппозиция «безумие — рациональность». Следующая работа «Появление клиники, археология медицинского взгляда» (1963) формулирует ключевое понятие первого этапа философской эволюции Фуко — «археология», предполагающее исследование предмета с точки зрения его языкового подтверждения, его высказанности, — как уже существующего и функционирующего явления культуры. Свой метод Фуко назвал «критической историей», поскольку в центре внимания оказываются исторические — мыслительные и культурные — предпосылки, условия появления той или иной идеи. Фуко использует слово «дискурс» (дословно — рассуждение) для обозначения соединения этих различных представлений в новом смысловом значении, закрепленном в языке. Сначала этим термином Фуко описывает характерный для классической философии способ последовательного изложения хода мысли. Позже «дискурс» охватит по существу все варианты языковой практики, все виды человеческой деятельности, так или иначе выраженные в языке. В получившей наибольшую известность работе «Слова и вещи» (1966) с подзаголовком «Археология человеческого знания» Фуко рассматривает исторические изменения эпистемы — смыслового ядра, вокруг организуются в определенный период различные сферы знания, —подвергая резкой критике современную сциентистскую эпистему. Объектыразличных наук образуются по правилам, заданным конкретной исторической ситуацией, а не непосредственно «вещами» или «словами», т. е. предметами или логикой познания. Определяющим оказывается дискурс — исторически обусловленная безличная языковая практика, которая по определенным правилам соединения дискурсивных элементов — совмещения, выведения, подстановки и др. — формирует понятия. Единой археологической почвой обладают выделенные Фуко концепции основных составляющих эпистемы с начала XIX в. — жизни, труда и языка. В философии языка центральным, по мнению Фуко, как в концепциях Фрейда и феноменологов, так и в концепциях Б. Рассела и структуралистов становится «рассмотрение предела», в одном случае — предела интерпретации, в другом — предела формализации языка. «Археология знания» (1969) — исследование «основных методов, границ, тем истории идей». По мысли Фуко, это первая часть большой работы, которая позже была подытожена им, созвучно ницшеанской идее, как «генеалогический анализ», рассматривающий исторические формы конституирования истины, власти, морали. Техника репродукции власти оказывается в центре внимания в работе «Надзирать и наказывать» (1975). Отношения господства — подчинения воспроизводятся на семантическом уровне бинарных смысловых оппозиций даже на периферии власти. Любой коммуникационный акт пронизан властными отношениями, поскольку коммуникация, даже в самом упрощенном варианте, как акт прямой передачи информации, предполагающей по крайней мере двух участников, асимметрична. Используя гегелевскую диалектику раба и господина, Фуко показывает неуничтожимость этой асимметрии и генетическую связь асимметричных властных отношений с асимметрией по отношению к информации, в более широком смысле, к знанию. Грандиозный незавершенный проект Фуко — «История сексуальности» (было заявлено шесть томов, подготовлено оказалось четыре, из них издано три): «Воля к знанию» (1976), «Использование удовольствий» и «Печаль о себе» (1984), «Свидетельства плоти», —предполагал поэтапное рассмотрение формирования западноевропейского «вожделеющего человека». Показательным вниманием к соединению философии и психоанализа отмечен своеобразный манифест постмодерна — «Что такое философия» (1991) Жиля Делёза (1925- 1995) и Феликса Гваттари (1930- 1992). Он явился итогом совместного анализа современного общества как «шизофренического» — т. е. неопределенного и многофакторного: «Капитализм и шизофрения» вышел в двух томах: «Анти-Эдип» (1972) и «Тысяча поверхностей» (1980). Человеческое желание представлено как базисное, производительное. Как деятельная сила, желание развертывается как воля к власти, реализуясь в порядке, устанавливающем отношения в обществе. Само по себе желание противоречиво и может предстать и как реактивная сила, как желание угнетения — ложное сознание, сознание вины. Ключом к пониманию современного состояния капитализма становится идея буржуа, являющегося «рабом самого себя», представленная А. Кожевом во «Введении в чтение Гегеля». Проблема выскальзывания из тисков социальных расписаний и возвращения к исходной «вожделеющей» субъективной реальности поднимается в работах Ф. Гваттари «Шизоанализ и трансверсальность» (1972), «Молекулярная революция» (1977), «Машинное бессознательное» (1978), «Шизоаналитические картографии» (1989). Тогда пассивность может быть преодолена лишь путем своеобразной — внутренней — активизации — шизофрении: «Шизофрения как про-цесс — производство желания, но таковой она предстает в конце как предел социального производства, условия которого определяются капитализмом. Это наша собственная болезнь. Конец истории не имеет иного смысла». В центре философских идей Делёза — повторение. С первой же своей работы «Ницше и философия» (1962) он подчеркивает, ссылаясь на Ф. Ницше, что истинная философия призвана «ввести в философию понятия смысла и ценности» и для этого надо обнаружить за представлениями смысл. Рационалистическая философия этого сделать не способна, так как она не может найти отличия между ре-презентациями — повторяющимися представлениями, сводя все к разнице двух способностей представлять — рассудком и чувствами. Ж. Делёз считает, что он дает действительно критическое и «натуралистическое», подразумевая концепции Б. Спинозы и Ф. Ницше, развитие кантианства. Этому посвящены центральные работы Ж. Делёза — «Различие и повторение» (1969) «Логика смысла» (1969) и — «Кино 1, 2» (1983, 1985), «Критика и клиника» (1993). Эта своеобразная философия воли номадического субъекта возникает как способ схватывания «рассеивания в пространстве однозначного и неделимого бытия». Номада — означает изменяющееся, не привязанное ни к чему определенному, не имеющее основания, базы, буквально — кочевое. Повторение продуктивно в двух смыслах — оно дает существование и выставляет напоказ, предъявляет то, что есть. По мысли Ж. Делёза, И. Кант в трансцендентальной эстетике указывал на чувственность как разнообразие различного априори, направленную на любой возможный опыт, — следует поэтому обратить внимание на это все «вновь обнаруживаемое в опыте». Так возникает в философии Делёза и Гваттари идея концепта, который диссонирует с традиционной концептуализацией, а ассоциируется контекстуально с перцептом и аффектом. Они обладают плотностью как некой внутренней непротиворечивостью, осмысленностью, они — в постоянном перестраивании в связи с появлением иных измерений и иных концептов. Однако это не хаотичное возникновение — исчезновение, а перманентный процесс становления. Ссылаясь на Бергсона, он отмечает, что различие не есть отличное, отличное есть данное, но различие — это то, через что данное есть данное. Суть развития ницшеанской идеи вечного возвращения: это не циклическое утверждение одного и того же или отличного, а повторение и различие. С точки зрения Ж. Делёза, Ницше писал о возвращении только сильных, утверждающих свое отличие, но при этом своим возвращением они отрицают отличия, поскольку возвращаются другими. Смысл тогда конституируется как поверхности (планы), пересекающиеся с другими, множащие свои измерения. Эта интерференция принципиально не локализуема. Это важнейшая — дополнительная, четвертая — функция языка. Смысл схватывается как изменчивая недихотомичная (т. е. без внутреннего противопоставления, так называемых бинарных оппозиций) напряженность, сингулярность. Каждый раз мы пытаемся «детерриториализировать», и нам удастся это только тогда, когда мы различим не отдельные детали — понятия или образы, а проникнем в ландшафт, который, как у Сезанна, предполагает отсутствие художника: «Философии нужна понимающая ее нефилософия, ей нужно не-философсокое понимание, подобно тому, как искусству нужно не-искусство, а науке — не-наука... В глубине всех трех «не-» заложена не-мыслящая мысль, подобная неконцептуальному концепту Клее или внутреннему безмолвию у Кандинского» (9, 279). Постмодернизм переворачивает, таким образом, смысл всех традиционных концептов, в первую очередь знака и текста. Проблематизируется самыйзнак как различение означающего и означаемого. Наиболее методологически об этом заявлено в философии Жака Деррида (1930 — 2004). Философия понимается прежде всего как критическое прочтение текстов, под этим углом зрения Деррида обращается к философии Гегеля, к феноменологии, к античной философии, а также к современным философским и литературным текстам Левинаса, Арто, Батая и др. Исходя из «двусмысленности» семиологии де Соссюра, связанной, по выражению Р. Якобсона, с «двоякостью лингвистического знака» — с одной стороны signans (соссюровское означающее), с другой стороны signatum (означаемое), — Деррида стремится показать, что «семиологический проект» одновременно оказывается способен подтвердить или поколебать традиционные установки философского мышления. Традиционная метафизика сделала предметом философствования наличное бытие, и соответствующим средством мыслить был логос — озвученная проговоренная мысль, которая самим актом «говорения» фиксировала наличествующее настоящее. Традиционный концепт знака предполагал «трансцендентальное означающее», которое в определенный момент не функционирует как означающее, т. е. оказывается концептом, независимым от языка. Результатом такого мышления стала антитетическая философия, вынужденная основываться на презумпции противоположностей, чтобы продемонстрировать приоритет одного из членов бинарной оппозиции: присутствия или неприсутствия, вещи или образа, прошлого или будущего, внешнего или внутреннего и т. д. Прежняя метафизика, как пишет Деррида, «сплавленная со стоической и средневековой теологиями», содержательно оказалась «онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентричной». Вокруг концепта знака, в котором, с точки зрения Деррида, по метафизическим причинам Соссюру существенной казалась его связь со звуком, возникает целая совокупность концептов, определяющих специфику классической философии. Среди прочих Деррида выделяет концепт коммуникации, который по сути дела предполагает передачу, призванную переправить от одного субъекта к другому тождественность некоего обозначенного объекта, некоего смысла или некоего концепта, формально позволяющего отделить себя от процесса этой передачи и от операции означивания. Т. е. в качестве исходных в метафизике предполагаются субъекты и не подлежащие трансформации объекты, или смыслы, а операция означивания мыслится как средство такой прозрачной трансляции. В этой системе тема перевода, например, оказывается однозначной и ясной и не представляет собой проблемы. Т. е. смысл в процессе общения не формируется, а лишь воспроизводится. Следствием такой трактовки знака, по мысли Деррида, и вопреки изначальной позиции лингвистики, язык оказывается кодом, а перевод — чистым «переносом» означаемых «инструментом» означающего. С точки зрения Ж. Деррида, метафизическое, или «идеалистическое», представление о языке и тексте исходит из предданности и неизменности транслируемых смыслов, во-первых, и абстрактных субъектов языка, во-вторых, — т. е. предполагается некое «трансцендентальное означающее», некий независимый от языка концепт, в какой-то момент не работающий в качестве означающего. А «говорящие субъекты», таким образом, и то, к чему отсылают говорящие в прошлом или будущем, формально отделены от самого процесса смыслопредставления — текста. На самом деле ни один текст не является самодостаточным, а оказывается «текстом, продуцирующимся лишь в порядке трансформации какого-то другого текста», означаемое функционирует и как означающее, а коммуника-ция — процесс формирования смыслов, поливариантный по своему характеру. Деррида по-новому подходит к проблеме озвученного/звучащего языка и языка письменного: речь в противоположность письму фиксирует высказанный здесь и сейчас смысл, в то время как понимание смысла лежит в поиске многих вариантов смысла. То, что у Р. Барта, например, будет противопоставлено как денотативные значения и коннотативные. Но таким образом создается иллюзия мгновенной отсылки к настоящему, наличному, реальному, обозначенному — означаемому. Деррида пытается переосмыслить концепт знака прежде всего с точки зрения неотделимости означаемого от означающего, их взаимообратимости, процессуальности самого акта означивания, расширяя понимание средств выражения смыслов. Эта попытка связана с критическим переосмыслением всей истории философии и преодолением «естественных» стереотипов философского мышления: «надо внутри семиологии трансформировать эти концепты, стронуть их с места, повернуть против их же предпосылок, пере-включить их в другие цепочки, мало-помалу видоизменить область проработки и создать таким путем новые конфигурации» (6, 42). На самом деле, по мысли Деррида, настоящее нецельно и всегда предполагает отсутствующее. Для прояснения своей позиции он предлагает два ключевых понятия, заявленных в названии работы 1967 г. «Письмо и Различение». Единственное, что можно сказать о настоящем — это различение в нем «отголоска» прошлого и «наброска» будущего, различение возможности присутствия и невосполнимости его утраты. Развивают эту тему и другие работы Ж. Деррида этого периода — «О Грамматологии» (1967), «Голос и Феномен» (1967). Новый концепт письма, или «граммы», или «разнесения» («различения»), призван разглядеть возникновение смыслов в разрыве метафизических представлений. Только «архиписьмо» может мыслить отсутствующее, поскольку обращает внимание на следы речи и мысли, на смысл, который возникает и функционирует в разрыве метафизических понятий и представлений. Как пишет Ж. Деррида, дело идет о «практической деконструкции философской оппозиции между философией и мифом, между логосом и мифом», и «осуществить это невозможно иначе, как на путях какого-то другого письма». Предложенный метод текстологического анализа — деконструкция — ставит своей задачей воспроизведение «следов» других текстов. Деконструкция предполагает изначальную нетождественность текста самому себе, его перекличку с другими текстами, и поэтому задачей философа становится поиск «следов следов», тех опорных понятий, которые указывают на эту несамотождественность. В этом смысле любой текст оказывается потенциальной цитатой, то есть он вписан в более широкий текст — контекст значений. Вывод, к которому приходит Деррида, состоит в том, что нет и не может быть единства языка понятий, не может быть единственно верной оценки или ядра интерпретации: ситуация в языке повторяет ситуацию в обществе и культуре — это может быть обозначено как процесс децентрации и рассеяния. Цель грамматологии — выявление «граммов», изначальных для данного текста метафор, которые, кстати, в свою очередь, могут обнаружить более «ранние» копии. Грамматология призвана обнаружить письмо, воплощающее принцип различения. Развивают и конкретизируют эту тему «Рассеивание» (1972), «Шпоры. Стили Ницше» (1978), «Психея. Изобретение Другого» (1987), «Подписано: Понж» (1988), «О праве на философию» (1990), «Призраки Маркса» (1993) и др.На основе принципа текстологического анализа Ж. Деррида появляется целый ряд литературоведческих, социологических, политических исследований, получивший общее наименование деконструктивизма. Деконструктивизм достаточно условно типологизируется: географически — различают американский (см. ниже), английский (например, Э. Истхоуп), немецкий (например, В. Вельш) и французский (прежде всего это французские постструктуралисты Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Лакан и Р. Барт позднего периода их творчества, Ю. Кристева и др.) деконструктивизм; тематически, преимущественно в рамках американского деконструктивизма, — выделяют литературоведческий (прежде всего Йельская школа с П. де Мэном, М. Блумом/ Д. Хартманом и др.), социологический, иногда его называют «левым» (Т. Илтон, Д. Брэнкман и др.), герменевтический (выделяют прежде всего У. Спейнос), феминистский (ограниченность такого деления очевидна: во Франции его представителями оказываются «классики» постструктурализма — Ю. Кристева, Л. Иригарэй, Э. Сиксу и др.; в США — Ж. Роуз, А. Снитоу, С. Бордо, Ю. Батлер и др.); а также по отношению к марксизму: разделяют немарксистски (например, Д. X. Миллер, Д. Брэнкман и др.) и неомарксистски, а точнее «реалистически» (Ф. Джеймсон, М. Риан и др.), ориентированные течения. Деконструктивизм исходит из дерридеанского понимания многослойности; неоднозначности текста и необходимости особого текстологического анализа — деконструкции, выявляющей такие опорные понятия и метафоры, которые указывают на несамотождественность текста, на перекличку его с другими текстами. Деконструкция, по мысли Ж. Деррида, должна сделать очевидной внутреннюю противоречивость сознания и привести к новому письму, воплощающему «различение». Однако этот принцип, предложенный Ж. Лаканом в 1964 г., как считается, под влиянием М. Хайдеггера, и развитый в метод Ж. Деррида в 1967 г., по-разному конкретизировался в различных концепциях, что спровоцировало неверное понимание деконструкции как деструкции. Последователи Лакана делали акцент на акте смыслополагания, затем пытались, опираясь на идеи других постструктуралистов, прежде всего М. Фуко и Р. Барта об области бессознательного, телесной экспрессии как единственной возможности противостоять репродуцирующим иерархию структурам языка, найти отличные от господствующей языковые практики — так формировался, например, философский постмодернистский феминизм. У Ю. Кристевой (р. 1942) семиотическая, доэдипова, процедура формирования знания, не контролируемая сознанием, в отличие от символической, способна наиболее адекватным, плюралистическим способом выразить желание и сформировать субъективную идентичность; у Сиксу этот утопический выразительный язык получает наименование «женского письма», в противоположность бинарному, артикулируемому «мужскому»; у Л. Иригарэй на смену фаллическому символизму должен прийти вагинальный. Несмотря на разнообразие предлагаемой терминологии, феминистская критика демонстрирует тесную связь идеи деконструкции с идеей децентрации. Речь идет о новом понимании языка, в котором нет центральных понятий, категорий, смыслов — в более широком смысле слова, это преодоление того «лого-фалло-онто-тео-фоноцентризма», о котором писал Ж. Деррида, это переход к новой модели культуры, не воспроизводящей иерархической ситуации «колониальности». Деконструктивизм критичен (синонимичным является понятие «деконструктивистская критика») и ориентирован на задачу снятия иерархических оппозиций, прежде всего в языке. Именно поэтому деконструктивизм оказывается одновременно практикой деконструкции — конкретным опытом анализа того или иного текста, выявлением маргинальных смыслов и рядов метафор. Появление деконструктивизма исторически связывают с первыми демонстрациями деконструктивистского текстологического анализа в работах Р. Барта «С\3» (1970) и Ю. Кристевой «Семиотика: исследования в области семанализа» (1969). Последователи М. Фуко, к их числу можно отнести, например, представителей так называемых герменевтического и социологического деконструктивизма, больше внимания уделяют проблеме взаимообусловленности дискурсов. Специфические «формы знания» различных научных дисциплин образуют единый свод прескрипций, воспринимаемый индивидом на бессознательном уровне. «Левый деконструктивизм», прежде всего неомарксистский, или «реалистический» деконструктивизм, делает акцент на критике соответствующих институциональных практик того или иного исторического периода, предлагая все многообразие деятельности людей, понимаемой в структуралистской традиции как дискурсивные, т. е. речевые, практики рассматривать как некий «социальный текст». Согласно этой точке зрения общекультурный дискурс идеологически «редактируется» и служит господству определенной части общества над другой. Задача философа — демистифицировать идеологические мифы путем деконструкции различных типов дискурсивных практик как «риторических конструктов». Литературная критика Йельской школы опирается на интерпретацию понятия деконструкции, данную П. де Мэном, которая, в свою очередь, восходит к ницшеанскому перспективизму: прочтение текста и придает ему смысл, который также, в свою очередь, оказывается неоднозначным. Литература и критика, таким образом, совпадают по своим задачам. Нет и не может быть окончательной интерпретации, и задача исследователя-критика-читателя — выявить в тексте те «разрывы смысла», в которых мы можем найти эту неоднозначность интерпретации текста в целом. Критичность дерридеанского принципа иногда становится апофатической: проблематичным становится даже «непонимание». Основные идеи Йельской школы, изложеннные в так называемом «Йельском манифесте» — сборнике 1979 года «Деконструкция и критика», считаются основополагающими для современного американского литературоведения. Исследователи отмечают и ряд «национальных» особенностей деконструктивизма: так, для французского деконструктивизма в целом характерна направленность деконструкции на «весь культурный интертекст», а для американского — характерен интерес к деконструкции конкретных художественных произведений. Кроме того, к американским постмодернистам, хотя и с оговорками, относят, например, Ричарда Рорти. Рорти (см. след. главу) проходит долгий путь творческой эволюции от аналитической философии, изложенной им в работе «Философия и зеркало природы» (1979), до позиции так называемого неопрагматизма («Истина и прогресс, 3», 1998). Он согласен, что язык не способен передать достоверную истину, однако человеческая культура — суть диалогичное общение, в процессе которого мы различаем степени достоверности, вырабатывая необходимые для этого общения механизмы, такие как, например, толерантность, демократия. Ценность философии — педагогическая, поэтому она скорее должна сохранять и использовать выработанные идеи, чем радикально изменять их. Особо следует выделить философию Жана Бодрийара (р. 1929), не сделавшего академической карьеры, но во многом определившего темы и настроение постмодерна. Сам он считал своей задачей выстроить критическую социальную теорию, показать, что эра знаков начиная с эпохи Возрождения постепенно приходит к формированию трех современных типов дискурсов, маскирующих, симулирующих амбивалентность жизни и смерти — экономическому, психоаналитическому и лингвистическому. Под этим углом зрения Ж. Бодрийар в работах «Система вещей» (1968), «Зеркало производства» (1973) и «Символический обмен и смерть» (1976) рассматривает современные теории личности, прежде всего психоаналитические, теорию политической экономии К. Маркса, способ функционирования общества. Символическое отражение смешивает реальное и воображаемое, символическая система становится определяющей и диктует свои собственные законы. В современных объяснительных схемах знак в конце концов утрачивает всякую связь с реальностью, он основывается сам на себе, т. е. становится самореференциальным и создает гиперреальность со своими гиперпространством, гиперкаузальностью и т. д. Особенность современной симуляции, согласно работам «Соблазн» (1979), «Симулякры и симуляция» (1981) и другим статьям и интервью Бодрийара, состоит в том, что выстраиваемое реальное не подается однозначному определению, это завораживающая пустота. Эти идеи Бодрийара во многом сформировали новейшую литературу постмодерна, в том числе отечественную. Литература1.Лотар Ж. Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // ad Marginem. M., 1994. 2.Фуко M. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977; 2-е изд. СПб., 1994. 3.Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. 4.Фуко М. Археология знания. К., 1996. 5.Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996. 6.Деррида Ж. Позиции. К., 1996. 7.Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. 8.Кристева Ю. Силы ужаса. СПб., 2003. 9.Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? СПб., 1998. 10.Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. 11.Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 12.Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 13.Deconstruction and criticism / By Bloom M. et al. N. Y., 1979. Глава 23. РОРТИ Ричард Рорти родился в 1931 г. в Нью-Йорке. Он учился сначала в университете Чикаго, а потом закончил аспирантуру Йельского университета. Преподавал в различных университетах и колледжах США: с 1961 г. в Принстонском университете, с 1982 г. в университете штата Виргиния и с 1998 г. в Стэнфордском университете. В последней четверти ХХ в. Рорти стал одной из знаковых фигур, воплотивших в себе новый облик современной философии. При этом ему вряд ли можно приписать авторство каких-то оригинальных философских решений, новых направлений в философии или создание фундаментальных трудов. Его популярность объясняется скорее тем, что он попытался занять наиболее широкую, понятную большинству позицию в философии и тем самым выразил наиболее общую тенденцию современной философской мысли. Это сочетание общедоступности со своеобразием отразилось даже на внешнем облике его философствования. Его философия представлена в основном статьями, единственная монография «Философия и зеркало природы», опубликованная в 1979 г., содержит не столько целостную концепцию автора, сколько развивает ряд ее положений, и вполне естественно, что свое продолжение она получила во множестве статей, охватывающих самый широкий спектр философских дискуссий. Элиминативный материализм и дарвинизм. Впервые Рорти как самостоятельный философ выступил в середине 60-х гг. со своим вариантом решения классической проблемы «сознание — тело», «mind-body problem». Решение Рорти отличало не столько направление, в котором двигалась его мысль, сколько радикальность и решительность, с которой он собирался избавить философов от одной из «вечных» проблем. Общая логика рассуждений Рорти базировалась на том, что разделение «ментальное и физическое» не может обнаружить своих оснований в самом опыте и, следовательно, может и должно искать их и, соответственно, путь своего разрешения в области языковой практики. Дилемма «ментальное» и «мозговые процессы» разрешалась Рорти однозначно в пользу языка нейрофизиологии, описывающего человеческие состояния в терминах нейронов и возбуждений коры головного мозга. Того, что привычно называется «ощущениями», просто не существует. Обычный язык, ссылающийся на некие внутренние состояния, привилегированный и безошибочный доступ к которым имеет «ощущающий» человек, должен быть вытеснен из обращения. Свою позицию Рорти определяет в то время как элиминативный материализм и солидаризируется с одним из своих учителей, Полом Фейерабендом, который ранее также категорично настаивал на устранении духовных сущностей и утверждении физикализма. Специфику своей позиции Рорти видит в том, что его теория тождества ментального и физического устанавливает особое соотношение между языком науки и обыденным языком. Язык нейрофизиологии, рассказывающий о (Нейронах, так же относится к языку, пользующемуся выражениями вроде«ощущения», «намерения», как язык современной физики к языку физики прошлых эпох. Если раньше ученые говорили «теплород», то сейчас говорят «кинетическая энергия молекул». И если прежде говорили о внутренних самоощущениях, то теперь правильнее говорить о состоянии нейронов головного мозга. Высказывания об ощущениях должны исчезнуть и уступить свое место новым выражениям. Если раньше люди говорили о демонах, ведьмах или молниях Зевса, а сейчас говорят о разрядах атмосферного электричества и людях, страдающих определенными галлюцинациями, то дело не в различной эмпирической базе, а в преимуществах того или иного языка. Язык нейрофизиологии не лишает человека привилегии безошибочного выражения своих внутренних ощущений, но устраняет его претензии на «окончательный эпистемологический авторитет» в этом вопросе. По Рорти, его эмпирическая и номиналистическая по сути позиция предполагает такое состояние исследования, когда «не будет вообще такой ситуации, когда абсолютный эпистемологический авторитет будет гарантированно принадлежать кому-либо» (8: 51). Аналогичным образом, разделения на «обозреваемое» и «недоступное обозрению», «частное » и «публичное», связываемые с разделением на внутренний мир сознания и внешний мир тела, должны быть сняты за счет обращения к различным языковым практикам, поскольку только они отвечают за то, каким образом складываются наши отношения как особого организма, принадлежащего миру, с этим миром в целом. «Знание того, как работает наше сознание, имеет не больше значения для развития или исправления наших воззрений, чем знание того, как работают наши гланды или наши молекулы» (9: 233). Главное — это приспособление нашего организма к окружающему миру, но и сама эта приспособленность, за которую мы можем благодарить биологическую эволюцию, оказывается связанной с тем, как мы понимаем те цели, к достижению которых направлены наши действия. Эту позицию, которая позволяет не только избавиться от понятия «сознание» как особой духовной сущности, противопоставленной миру (вину за подобную ошибку Рорти, как и многие современные философы, возлагает на декартовский рационализм), но и помещает человека как биологический организм в общую структуру причинно-следственных связей, которым подчинены все животные, Рорти связывает с дарвинизмом и шире — с натурализмом. С эволюционной точки зрения не существует никакого принципиального разрыва между тем, как амеба приспосабливается к температуре окружающей ее воды и тем как люди изменяют свои представления в науке, искусстве и политике. Люди — это такие же животные, которые в ходе эволюции изобрели особые орудия приспособления к миру в виде различных языковых практик. Соответственно, единственное, что может определять эти практики — это их успешность и согласие людей ими пользоваться. Здесь уже совершенно очевидно проявляется общий прагматический подход, который и впоследствии будет определяющим для философии Рорти. В этот период Рорти выступает еще вполне как лингвистический философ (см. его введение к работе «Лингвистический поворот» (The Linguistic Turn, 1967)), однако его подход ориентируется не столько на особую лингвистическую позицию в философии, сколько на то, чтобы предоставить философии возможность быть независимой не только от языка науки, но и от противопоставления языка и действительности. Поэтому в дальнейшем Рорти не только усиливает свое критическое отношение к аналитической философии и обращается в сторону альтернативной ей европейской современной философии, но и последовательно движется от элиминативного материализма и дарвинимма дальше в направлении к выработке собственной философской ПОЗИЦИЙ. Прагматизм и проект образовательной философии. Следующий важный этап становления концепции Рорти — это книга «Философия и зеркало природы». В этой работе он предстает как уже сложившийся философ, полностью уверенный в избранной им линии философствования. Ее общее направление вполне сознательно определяется им как прагматизм. Однако в числе ведущих ориентиров, им избранных, он помимо Дьюи также упоминает Хайдеггера и Витгенштейна. Что же касается содержательных вопросов, то здесь позиция Рорти практически поровну распределяется между той критикой аналитической философии, которую уже до него успешно проделали сами философы-аналитики: Куайн, Селларс, Дэвидсон, и которую Рорти использует уже в готовом виде. К этому материалу добавляются его симпатии к отдельным представителям европейской философии: Хайдеггеру и Сартру, Гадамеру и Деррида. Сотрудничество с ними Рорти носит крайне ограниченный характер: американский философ обращает внимание лишь на отдельные моменты их учений, которые, как ему представляются, могут подкрепить его собственную позицию. Что же касается самокритики аналитической философии, то здесь ситуация обратная. Рорти самым основательным образом опирается на те значительные по общему признанию разработки аналитических философов, которые позволили ей отойти от традиционных эмпирических предпосылок и раскрыли рационалистические предрассудки там, куда прежняя эмпирическая философия не заглядывала. Одно из таких движений в рамках аналитической философии связано с именами У. Куайна, У. Селларса, Д. Дэвидсона, другое направление связано с историческим подходом к науке и представлено именами Т. Куна и П. Фейерабенда. От последних Рорти заимствует исторический подход к развитию научных знаний и вообще всех человеческих представлений, однако отклоняется от следования позитивистскому приоритету научности ради признания исторического и структурного разнообразия различных направлений культуры. Он утверждает, что в процессе развития познания мы не переходим от старых решений к новым решениям проблем, а пересматриваем наше представление о самих проблемах. Эти выводы применяются им в первую очередь к представлениям о философии вообще и в частности к ее отношениям с наукой и культурой в целом. Мыслитель категорически отказывается от позитивистского наследства в виде «трехсотлетней риторики о важности строгих разделений между наукой и религией, наукой и политикой, наукой и искусством, наукой и философией и так далее» (9: 330). Все эти разделения были призваны обосновать особый статус научной философии или эпистемологии в культуре, и как и от всех остальных культурных привилегий от них следует отказаться. Рорти распространяет на все сферы культуры исторический подход, настаивает на преодолении разделений на естественные и гуманитарные науки, а также на пересмотре прежних представлений о философии, которые отводили ей роль главного арбитра в решении всех научных споров и противоречий внутри культуры. Такое представление о философии Рорти связывает прежде всего с эпистемологией как главной наукой, отвечающей за сами научные методы и за основательность тех или иных точек зрения как «научных», так и иных областей культуры. В своей атаке на эпистемологию Рорти мобилизует ту критику общей эмпирической платформы аналитической философии, которую проделали другие философы. В результате этой критики, по мнению Рорти, само представление о философии как эпистемологии можно считать разрушенным. Мы не можем утверждать что наши знания отталкиваются от некоей структуры, находящейся вне их и служащей критерием их научной ценности. Язык эпи-стемологии, претендующей на то чтобы быть нейтральной и универсальной точкой зрения, наукой о знании или о взглядах полностью отбрасывается. Мы не можем подходить к сознанию как особому предмету специальных философских познаний, точно так же, как мы не можем утверждать, что некое свойство данности сознанию или осознанность предоставляет фундамент нашим эмпирическим высказываниям и вообще предшествует языку. Мы должны отказаться от репрезентативности наших отношений к окружающему миру, строящемуся на том же, устаревшем, как считает Рорти, представлении о сознании как особой сущности, о нашем уме как «зеркале природы», на разделении на духовное и ментальное. Отвергается также разделение на объективное и субъективное, «объективность» — это не что иное, как «свойство теорий, которые после тщательного обсуждения были выбраны путем согласия рациональных собеседников» (9: 338). Вместо понятия об истине предлагается «социальное оправдание верования» (9: 170), «согласие между исследователями» (9: 335). Вообще нет единого критерия, который позволял бы философии или эпистемологии отделять оправданные верования от неоправданных. При этом Рорти не забывает сделать оговорку и откреститься от обвинений в идеализме: «отвергать существование какой-то «рациональной реконструкции», которая может узаконить текущую научную практику, не означает утверждать, что атомы, волновые пакеты и так далее, обнаруженные физиками, являются творениями человеческого духа» (9: 345). В качестве защиты от идеализма Рорти прибегает к прагматистскому критерию истины и практической реалистической позиции: мы не отражаем мир, а приспосабливаемся к нему. Бесконечность и неисчерпаемость окружающего мира делает невозможным существование единственного и универсального способа общения с ним и как раз открывает бесконечную перспективу перед человеческим исследованием. Неустойчивость всех этих разделений, или эпистемологических демаркаций, о которых говорит Рорти, лишает философию права выступать в качестве некоего твердого фундамента наших знаний и нашей культуры в целом. В этом отношении не может считать себя в привилегированном положении и так называемая «лингвистическая философия», поскольку, подчеркивает Рорти, «это величайшее искушение думать, что объяснение того, как работает язык поможет нам увидеть то, каким образом язык прицепляется к миру, и то, как таким образом истина и знание оказываются возможными» (9: 265). Взамен философия должна выступить исключительно в терапевтической роли посредника между различными языковыми практиками и культурами. Это как раз то, чему, по мнению Рорти, учит современная герменевтика. Культура в целом — это поле, где сталкиваются самые различные языковые практики и словари, она не может выстраиваться по иерархическому принципу. Философия — это всего лишь «голос в разговоре человечества», говорит Рорти, ссылаясь на выражение английского философа М. Оукшотта по поводу поэзии. Никакого единого и нейтрального словаря для всех или единого универсально соизмеримого текста не может существовать. Развивая дальше эти мысли, Рорти вполне закономерно приходит к критическому отношению вообще к философии как особой профессии, которая выступает как конечная инстанция, «получающая верно факты и говорящая нам, как нам жить» (9: 385). За отсутствием собственно теоретических критериев, концепция Рорти вынуждена обращаться к сфере общественной жизни. Поскольку за всеми теоретическими разделениями, по мысли Рорти, стоят люди, их взаимные отношения и социальные условия их жизни, это значит, что самым фундаментальным разли-чием мы можем считать различение между «нормальным» и «ненормальным» дискурсом. Если за первым стоит большинство сообщества или «согласие исследователей», и «выражение «соответствует самим вещам» есть скорее стандартный комплимент в адрес успешного нормального дискурса» (9: 372), то сторонники последнего — это маргиналы, отдельные личности. Их языки могут варьироваться от обыкновенного безумия до гениальных прозрений в науке и искусстве. Проект «образовательной философии» Рорти заключается в том, чтобы улучшить состояние человечества, «поскольку образовательный дискурс предполагается быть ненормальным, выводить нас за рамки наших прежних личностей за счет своей странности. Помогать нам становиться новыми существами» (9: 360). В конечном счете, как очевидно, Рорти приходится прибегать опять-таки к прагматистскому критерию. Этот критерий заставляет самого Рорти весьма определенным образом пользоваться такими категориями, как «безумие», «абсурд», «недостаток образованности», «недостаток такта» или «плохой вкус» и, наоборот, «лучшая идея», «лучший и новый способ говорить». «Прибегать к ненормальному дискурсу изначально, не будучи способным осознать нашу собственную ненормальность, есть сумасшествие в самом буквальном и ужасном смысле слова. Настаивать на герменевтической практике там, где достаточно воспользоваться эпистемологией — сделать нас неспособными увидеть нормальный дискурс в терминах его собственных мотивов и способными видеть его только с точки зрения нашего собственного ненормального дискурса — это не безумие, но явное свидетельство недостатка образования» (9: 366). В другом месте философ отмечает, что «недостаток такта» в науке скорее зависит от «недостатка питания и тайной полиции» (9: 389). Тем самым философ обращается к сфере морали и политики и уже выясняет отношения не столько с философами и учеными, сколько с моралистами и политиками и вообще общественным мнением. Постмодернистский буржуазный либерализм и этноцентризм. Солидаризируясь в целом с либерализмом философии Просвещения, как это явно следует из его сочинений, Рорти, однако, выступает против теоретических конструкций, на которых основывался либерализм Просвещения и гуманизм. Он отказывается от представления о некоей человеческой природе, о человеческой самости как структуре с неким центром, сущностью или природой, для него человек — это скорее «гибкая система верований, желаний и убеждений, в произвольном порядке друг с другом сплетенных, как наборе атрибутов без субстрата-подлежащего, без центра» (6: 204). Кантианское разделение на моральность и благоразумие смягчается им до неразличимости. Человек лишь двусторонняя самость, состоящая из двух типов верований: моральных, общих с другими членами группы, и благоразумных, определяемых прагматическим, индивидуальным опытом. Опору либеральные институты должны находить не в интеллектуалах, теориях и словесных конструкциях, а в солидарности со своим сообществом. Современная либеральная демократия не нуждается в «представлениях о «разумной и нравственной природе», «естественных правах» и «достоинстве» человека», «апелляции к принципам солидарности и взаимной помощи вполне достаточно, чтобы продуктивно действовать» (6: 202). Предпосылкой и исходным пунктом формирования нравственного облика индивида является осознание им собственной принадлежности к определенному конкретно-историческому сообществу (или традиции), и такое представление не является «ни безответственным, ни социально вредным или опасным» (6: 203). Свой этноцентризм, как откровенно называет его философ, Рорти противопоставляет космополитизму, представленному некой якобы нейтральнойи научной культурологией, и сам ратует за космополитизм этноцентричный. «Представление, что любая традиция «достаточно» рациональна и нравственна, т. е. не менее, но и не более «прогрессивна», чем какая-либо другая и все традиции, взятые вместе, — это представление сверхъестественно, не-человечно, поскольку оно в такой сильной мере абстрактно, что исключает всякое сомнение, вопрошание и опытное исследование, поскольку оно уводит нас от проблем истории и культурного диалога к созерцанию и метаповествованию» (6:209). Различие, которое эксплуатирует культурология, между «межкультурным» и «внутрикультурным» отвергается Рорти на прежних основаниях как и все аналогичные различия между внутренним и внешним. Рорти не нуждается в представлении об «универсальной транскультурной рациональности» в духе эпохи Просвещения. Вместо этого он предлагает придерживаться прагматистских критериев при оценке собственного отношения к другой культуре. «Различие между различными культурами не отличается по существу от различия между различными теориями, выдвигаемыми членами одного культурного сообщества» (12: 9). При этом «мы или признаем особую привилегию за нашим собственным сообществом, или мы претендуем на невозможную терпимость по отношению к любой другой группе» и, заключает Рорти: «Мы должны сказать, что мы должны на практике дать привилегии нашей собственной группе, хотя для этого и не может быть никаких иных оправданий кроме круговых» (12: 12). Свое сообщество Рорти определяет как «сообщество либеральных интеллектуалов светского современного Запада» (12: 12). Хотя он выражает свою приверженность идеалам и институтам Просвещения, единственную возможность для подкрепления собственной приверженности к ним он находит в случайности своей культурной принадлежности к Западу. Литература1.Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. 2.Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. 3.Рорти Р. Обретая нашу страну: Политика левых в Америке ХХ века. М, 1998. 4.Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. 1994. № 6. С. 29-34. 5.Рорти Р. Прагматизм без метода // Логос. 1996. № 8. С. 155— 172. 6.Рорти Р. Постмодернистский буржуазный либерализм. // Джохадзе И. 7.Неопрагматизм Ричарда Рорти. М., 2001. С. 199-210. 8.Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. М., 1997. 9.Rorty R. Mind-body Identity, Privacy, and Categories // The Review of Metaphysics, 1965, v. 19, № 1, p. 24-54. 10.Rorty R. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, 1979. 10. Rorty R. Consequences of Pragmatism. Minneapolis, 1982. 11. Rorty R. Philosophical Papers. Vol. 1-3. Cambridge, 1991-98. 12. Rorty R. Solidarity or Objectivity//Post-Analytical Philosophy. N.Y., 1985, P. 3-19. 13. Rorty and Pragmatism. Nashville, 1995. Глава 24. ДЕННЕТ Философия ХХ в. проходила под знаком исследований языка. Постепенно этот уклон обретал все более резкий характер. Бытие и сознание растворялись в языке, и мир оказывался огромным текстом без Автора и смыслового центра. Над западной мыслью нависла угроза релятивизма и «деконструкции» рациональности. Однако в последние десятилетия ХХ в. в философском климате произошли радикальные изменения. Философия вновь оказалась востребована в свой позитивной функции. Отчасти это было связано со стремительным развитием средств коммуникации и интеграцией мирового сообщества, заставлявшей людей думать о «человеческих универсалиях» на фоне множества культурных различий. Оказалось, что только философия способна построить унифицированную теорию человеческой природы. И она является тем языком, который может объединить представителей разных эмпирических дисциплин — эволюционной психологии, нейронауки, когнитивной науки, этнографии и др. — в их попытках найти точки соприкосновения своих концепций. Неудивительно поэтому, что философская антропология и философия сознания оказались на передовой линии интеллектуальных разработок конца ХХ в. В эту область устремились лучшие умы из разных сфер знания: биологи, нобелевские лауреаты Ф. Крик, Дж. Эдельман и Дж. Экклз, физик Р. Пенроуз, психолингвист С. Пинкер, когнитивисты, аналитические философы, эпистемологи и феноменологи. Одним из пионеров современной философии сознания, пронизанной эволюционизмом, идеями когнитивной науки с ее компьютерной моделью сознания и объединительными тенденциями был американский философ Дэниел Деннет. Деннет родился в Бостоне в 1942 г. в семье историка. Он учился в Гарвардском университете, где стал бакалавром по философии в 1963 г. В 1965 г. в Оксфорде Деннет защитил докторскую диссертацию по философии, которая заложила основу для его первой книги — «Контент и сознание» (1969), содержащей проект всей его будущей системы. С 1965 по 1971 г. Деннет работал в Ирвинском университете. В 1971 г. он перешел в университет Тафта и в 1975 г. стал его профессором. В последующие годы Деннет опубликовал ряд книг, принесших ему широкую известность в мире: «Мозговые штурмы: философские эссе о психике и психологии» (1978), «Пространство для движения: какая свобода воли нам нужна» (1984), «Интенциональная установка» (1987), «Объясненное сознание» (1991), «Опасная идея Дарвина: эволюция и смыслы жизни» (1995), «Виды психики: на пути к пониманию сознания» (1996), «Дети мозга: эссе о проектировании психики» (1998) и «Эволюционирующая свобода» (2003). На подходе книга «Разрушая чары», в которой Деннет попытается доказать неизбежность краха религиозного мировоззрения.Последовательный материализм и сциентизм были характерны для Деннета уже в студенческие годы. Вскоре после поступления в университет он ознакомился с «Размышлениями о первой философии» Декарта и озадачился проблемой соотношения ментального и физического, о которой идет речь в этой работе. Дуализм духа и материи, провозглашенный Декартом, не мог устроить Деннета. Дух, ментальное, понял он, должны трактоваться так, чтобы не подрывать единство научного знания и универсальность физических законов. Но нельзя, считал Деннет, устранять дуализм, игнорируя ментальное или делая вид, что его вовсе не существует. Так поступали, к примеру, знаменитый бихевиорист Б. Ф. Скиннер и философ-аналитик У. Куайн. Оба они преподавали в Гарварде во времена студенчества Деннета. Отвергая радикальность их подходов, он тем не менее усвоил от них общий бихевиористский тезис о необходимости изучения психики «с точки зрения третьего лица». В отличие от Куайна он, однако, считал, что ментальные понятия можно переформулировать в терминах функционирования материальных систем. Такой тактике больше соответствовали философские опыты Л. Витгенштейна и британского аналитика и «логического бихевиориста» Г. Райла, хотя позже Деннет признал, что его построения согласуются с положением Куайна о «неопределенности перевода» ментального в физическое, и объявил свои теории продуктом «скрещивания» идей Куайна и Райла. Райл, под руководством которого Деннет работал над докторской диссертацией, утверждал, что декартовское «привидение в машине» можно изгнать, если соотнести ментальное с какими-либо поведенческими диспозициями и уяснить, что понятия ментального и физического относятся к разным «категориям», так что говорить об их онтологической рядоположенности или, наоборот, тождестве попросту некорректно. Деннет продолжил эту линию, пытаясь продемонстрировать «нереференциальную» природу ментальных понятий, т. е. показать, что термины «народной психологии», такие как «боль», «желание» или «убеждение», не обозначают самостоятельного или субстанциального пласта реальности, а отсылают к определенным функциям человеческого мозга. Линия на уяснение объективного функционального содержания ментальных понятий, однако, должна совмещаться с анализом специфики ментального, данного нам в интроспекции. Поэтому полноценная теория психики (mind), утверждал Деннет, должна включать как функционалистский компонент, так и учение о данных интроспекции. Первая часть в силу указанных причин именуется им теорией «контента», или содержания, вторая — теорией «сознания» (consciousness). Адекватная теория сознания, уверен Деннет, может быть построена только на базе функционального анализа психики, с выводами которого должны быть соотнесены данные интроспекции. Он противопоставляет свой подход позиции Т. Нагеля и других мыслителей, считающих, что философия сознания (philosophy of mind) должна базироваться именно на анализе субъективных данностей сознания, специфики «точки зрения от первого лица». Такой путь, полагает он, не позволяет уйти от убеждения в «нередуцируемости» ментальных феноменов и разгадать тайну сознания. Первая, функционалистская часть теории психики подробно изложена Деннетом в сборнике «Интенциональная установка». Это название не случайно. Характерным свойством психического Деннет, вслед за Ф. Брентано, готов признать «интенциональность», т. е. нацеленность на предмет илисмысл. На лингвистическом уровне эта нацеленность выражается «интенциональными идиомами» — «убежден», «желает» и т. п. (5: 60). Интенциональным идиомам присущ интенсиональный, а не экстенсиональный оттенок, так как подстановка равнозначных терминов в предложения, в состав которых они входят, не всегда сохраняет истинность последних (к примеру, из того, что я убежден, что Венера — Утренняя звезда, еще не следует, что я убежден, что она Вечерняя звезда). Материальные системы, деятельность которых может быть охарактеризована при помощи интенциональных идиом и предсказана, исходя из «интенциональной установки» (intentional stance), т. е. вследствие приписывания таким системам убеждений и желаний, именуются Деннетом «интенциональными системами». Интенциональные системы следует отличать от физических систем и артефактов, прогнозирование «поведения» которых осуществляется из «физической» и «дизайнерской» установок (см. 7: 15-17). Физическая установка продуктивна при рассмотрении природных процессов, управляемых всеобщими законами, такими как закон тяготения. Знания этих законов и начального состояния системы оказывается достаточно для определения ее последующих состояний. Дизайнерская установка предполагает представление о цели той или иной вещи. К примеру, оценивая некий предмет как будильник, мы можем прогнозировать, что он будет издавать резкие отрывистые звуки через определенный промежуток времени, вычисляемый на основании положения его частей в данный момент. Интенциональная установка отчасти близка дизайнерской, так как она тоже подразумевает представление о цели, заложенной в материальную систему. Но дизайнерская установка не требует приписывания «разумности» и самодеятельности ее объектам. Интенциональная же установка не может обойтись без этих допущений. Сделав эти различения, Деннет обращает внимание на то, что интенциональная установка применяется нами не только по отношению к живым существам, но и по отношению к компьютерам. Область ее приложения можно расширить и на другие предметы, такие как термостаты, или даже на все вещи вообще (к примеру, твердость каких-либо физических объектов можно рассматривать как следствие их нежелания изменяться и т. п.), но реальную прогноститическую эффективность интенциональные интерпретации приобретают именно по отношению к живым существам и компьютерам. Скажем, игра с шахматным компьютером (излюбленный пример Деннета) просто немыслима без приписывания ему интенциональности, т. е. определенных желаний, намерений и убеждений. Изоморфизм психической деятельности, реализуемой мозгом, и инсталлированных компьютерных программ, обнаруживающийся при рассмотрении этой деятельности «с точки зрения третьего лица», позволяет Деннету трактовать саму психику в компьютерном смысле. Психика — тоже своего рода программа или вычислительная активность мозга. Правда, в отличие от компьютерных программ, имеющих фиксированную логическую структуру, психические алгоритмы, считает Деннет, не поддаются однозначной интерпретации. Хотя он не отрицает наличия объективных «схем» (patterns) в мозге, соответствующих интенциональным состояниям, но поскольку в нем одновременно происходит громадное множество вычислительных процессов, суммирующих свои результаты, оказывается невозможно точно определить, какие именно схемы порождают то или иное интенциональное состояние. Поэтому «убеждения и желания ... лучше всего рассматривать в качестве абстракций — боль-ше похожих на центры гравитации или векторы, чем как индивидуализируемые конкретные состояния некоего механизма» (10: 85). Эти различия, однако, не отменяют важного сходства, имеющегося между психикой и компьютерными программами, — их телеологичности, функциональности. Функциональность программ состоит в том, что они позволяют добиваться каких-то конкретных целей. Психика тоже служит конкретной цели — выживанию организмов и продолжению их рода. Деннет не спорит, что компьютерные программы имеют лишь «производную интенциональность». Иными словами, интенциональность вложена в них людьми, программистами. Но и сами люди обладают производной интенциональностью. В качестве их Программиста выступает «Мать Природа», а именно длительный процесс естественного отбора. Поскольку «стрела интенциональности» направлена в будущее (поэтому главные интенциональные состояния — это желания, задающие цели, и убеждения, позволяющие определить средства для их достижения), эволюционирование интенциональных систем проходило именно в отношении их возможности выстраивать или предвосхищать будущее. Деннет выделяет четыре этапа этого процесса. На первом прогностические возможности организмов практически отсутствуют, они жестко генетически соотнесены со своим наличным окружением. Такие организмы Деннет называет «дарвиновскими созданиями». На втором этапе возникают «скиннеровские создания», способные варьировать поведение в зависимости от положительных или отрицательных подкреплений своих конкретных действий, что предполагает создание ими некоего образа будущего. Для третьего этапа характерно появление «попперовских созданий», способных проигрывать будущие действия в своей внутренней информационной среде еще до их реального совершения. Наконец, на четвертом этапе возникают «грегорийские создания» (по имени психолога Ч. Грегори), а именно люди, для которых характерен качественно новый уровень насыщения этой внутренней среды, достигаемый во многом благодаря возникновению в результате длительного эволюционного процесса развитой способности к научению (см. 9: 374 — 378). Дарвиновская теория эволюции является, таким образом, одной из основ теории психики у Деннета. Неудивительно, что он затратил немало сил, чтобы показать отсутствие реальных альтернатив учению об эволюции путем естественного отбора в связи с участившимися выпадами креационистов против эволюционистских воззрений. Изящность стиля Деннета способствовала тому, что его эволюционистский труд, «Опасная идея Дарвина», получил хороший прием у публики и высокие оценки критиков как один из лучших современных трактатов по теории эволюции. В этой работе Деннет разъясняет центральные положения дарвинизма и предлагает ряд идей (в частности, концепцию «подъемных кранов», которые ускоряют эволюцию), устраняющих трудности данной теории. Вместе с тем он не ограничивается оборонительными мероприятиями. Поддержав смелое начинание биолога Р. Доукинса, он пытается распространить принципы дарвиновского эволюционизма на культуру. В работе «Эгоистичный ген» (1976), разошедшейся по миру тиражом в миллион экземпляров и оказавшей громадное влияние на современную западную культуру, Доукинс предложил смотреть на эволюцию с точки зрения генов, а не организмов или видов, и трактовать живые существа как машины для сохранения генов, «заботящихся» только о своем успешном копирова- нии. Он также провозгласил, что принципы дарвиновской теории эволюции независимы от их конкретных материальных воплощений, и могут быть реализованы на других носителях, в частности в сфере культуры. Культурные аналоги генов Доукинс назвал «мемами» (memes). Примером мемов являются «мелодии, модные словечки и выражения, способы варки похлебки и сооружения арок» и т. п., в общем, любые «идеи», способные к реплицированию, т. е. пересаживанию из ума одного человека в ум другого. Как и гены, мемы имеют неодинаковую способность к выживанию и могут мутировать при копировании. Эволюция культур может быть, по Доукинсу, объяснена из этих посылок. Правда, в «Эгоистичном гене» эта мысль высказана им, по сути, мимоходом, и сам Доукинс признает, что все значение своей гипотезы мемов он осознал по итогам ее детальной проработки Деннетом, после которой многие всерьез заговорили о создании новой науки — «меметики». Меметика. Впрочем, сам Деннет осторожно относится к перспективам меметики как науки о культуре. Замечания С. Пинкера, С. Дж. Гулда и других авторов, указывавших на не случайный, а направленный характер мутаций мемов, на гораздо большую частоту таких мутаций, на то, что различные меметические линии, или «идеи», постоянно объединяются, чего не бывает с генетическими линиями, заставили Деннета усомниться в возможности прямого переноса законов биологической эволюции на трансформацию культуры. Ценность концепции мемов состоит скорее в том, считает Деннет, что она позволяет взглянуть на культуру с новой точки зрения, которая в некоторых отношениях оказывается перспективнее других подходов. Так, трактовка человека как устройства для сохранения паразитирующих на нем эгоистичных мемов, в сумме составляющих культуру, помогает, с одной стороны, понять, почему некоторые культурные технологии, к примеру, связанные с наркотиками, работают во вред использующим их индивидам (мемы «думают» прежде всего о собственном умножении), с другой — уяснить, почему в целом культура способствует благосостоянию людей (своекорыстные мемы достигают наилучших результатов, заботясь о своих хозяевах). Но главная польза концепции мемов, по Деннету, состоит в том, что она помогает уточнить природу человеческого сознания. Дело в том, что сознание трактуется им как «громадный комплекс мемов (или точнее мемо-эффектов в мозге)», организованный как «виртуальная машина», т. е. временная структура, «сделанная скорее из правил, чем из проводов» с последовательной «тьюринговской» или «ньюмановской» архитектурой, накладывающейся на «параллельную архитектуру мозга, не предназначенного для подобной деятельности» (8: 210 — 211). Правила для этой виртуальной машины, собственно, и задаются мемами, своего рода культурными программами, в числе которых оказываются, в частности, этические кодексы. Для эффективного функционирования необозримого множества этих конкурирующих программ они должны получать разный приоритет, позволяющий устанавливать очередность их исполнения, соотнесенную со сменяющими друг друга во времени управляющими инстанциями. Все это, по мнению Деннета, предполагает создание виртуального «бутылочного горла» для информационных потоков в мозге, которое и превращает этот орган из параллельного в квази-последовательное устройство. Инсталляция мемов в мозг осуществляется в процессе речевой коммуникации, предрасположенность к которой присуща человеку на генетическом уровне. Возникновение в мозге виртуальной машины мемов, считает Деннет, значительно увеличивает природные способности этого вы-числительного органа, что наглядно подтверждается биологическими успехами цивилизованного человека. Сознание, таким образом, способствует адаптивной деятельности человека. Его предпосылкой, по Деннету, был процесс автостимуляции мозга, зародившийся в ситуации вопрошания самого себя (поводом для которого могли стать ошибочные убеждения людей, что рядом кто-то есть, они обращались к спутнику за помощью, никто не отвечал, но они с удивлением замечали, что сами могут с пользой ответить себе), исторически позволившего наладить внешние каналы связи между системами мозга, которые были не соединены генетически закрепленными переходами. Подобные «софтверные» связи и получили развитие в культуре, проникновение которой в мозг наделяет его сознанием. Учение о сознании, образующее, напомним, вторую часть теории психики в системе Деннета, изложено в одной из самых интригующих его работ — «Объясненном сознании». Его теория имеет достаточно сложную структуру. Кажется, что она должна была бы быть описанием феноменологического опыта человека, субъективных качеств и состояний, которые с времен Декарта многими считаются незыблемой реальностью. Нетрудно, однако, заметить, что рассуждения Деннета о сознании как продукте инфицирования мозга мемами, которое позволяет добиться эффективного функционирования интенциональной системы «человек», велись с точки зрения третьего лица. Это не случайно, и он прямо заявляет, что его объективистская теория интенциональности используется для того, чтобы показать, как человеческое сознание возникает как «частный феномен внутри этой теории». Тем самым Деннет отрицает наличие четких границ между первой и второй частями своей теории психики. И хотя это не означает, что он вообще игнорирует так называемый феноменологический опыт, но при его рассмотрении он, как и прежде, пытается сохранять объективность, используя «гетерофеноменологический метод», сводящийся к принятию все той же интенциональной установки по отношению к исследуемым субъектам. Такой подход позволяет выстраивать «нейтральные» интерпретации субъективных состояний, отвлекаясь от вопроса об их соответствии реальности и уподобляя их фиктивным мирам художественных текстов. Конечно, гетерофеноменологический метод основан на переносе интенциональных состояний исследователя на других субъектов. Но Деннет настаивает, что и интенциональные состояния последнего должны быть истолкованы в гетерофеноменологическом ключе, поняты как условные, фиктивные сущности. Это вступает в явное противоречие с декартовским тезисом о достоверности субъективных состояний и непосредственности доступа к ним. Но Деннет вовсе не считает этот тезис истинным. Он отрицает, что феноменологический опыт является сферой безусловной очевидности. Наоборот, этот опыт перегружен ложным теоретизированием. Используя данные современной экспериментальной психологии, Деннет убедительно показывает, что люди и в самом деле плохо представляют, чем же в действительности является их внутренний мир. Таким образом, задача теории сознания состоит в том, чтобы разрушить миф о самоочевидности субъективного опыта, устранить его догмы и заменить их объективистской позитивной теорией. Главной мишенью Деннета выступает метафора «картезианского театра», места, где «все сходится вместе» в сознании. Признание такого места означа-ло бы либо допущение особой духовной сущности в теле, что восстанавливало бы дуализм, либо впадение в «картезианский материализм», предполагающий существование некоего участка мозга на «водоразделе» его входящих и исходящих импульсов (в том числе вербальных), являющегося местопребыванием сознания. Нейронаука, однако, доказывает, что такого места в мозге просто не существует. Это значит, что «картезианский театр» — не более чем иллюзия. В сознании отсутствует подлинный центр, и в мозге нет Зрителя или Толкователя. Образ картезианского театра Деннет заменяет более плодотворной, по его мнению, метафорой «множественных набросков»»(multiply drafts). Эта метафора, или модель, лучше соответствует изначальной параллельной архитектуре мозга, возникшей в результате эволюционного наслоения его функций. Согласно модели множественных набросков, в мозге одновременно происходит множество адаптивных процессов обработки информации. По сути, они и являются реальными «феноменологическими данностями», очищенными от псевдоинтроспективных наслоений, причем равноправными, хотя при многократном «редактировании» этих «набросков» при самом непосредственном участии виртуальной меметической машины лишь некоторые из них попадают в области мозга, ответственные за вербальные отчеты, «пресс-релизы» субъекта. Только о таких «набросках» мы говорим, что осознаем их, хотя это и не вполне точно. Критика традиционной феноменологии и замена реального единого Я абстрактным «центром нарративной гравитации» не означает, уверен Деннет, отказа от трактовки наших субъектов как интенциональных систем (хотя это понятие уточняется после замены картезианских образов новыми метафорами, и эти системы лишаются изначально предполагавшегося в них единства), а также от традиционных понятий «народной психологии». Одним из важнейших понятий такого рода является «свободная воля». Деннет посвятил этой проблеме две книги, причем последняя из них, «Эволюционирующая свобода», по существу, подводит итог всей его системе, вбирая в себя темы других его трактатов. Деннет уверен в реальности свободы воли. Вместе с тем он считает ошибочным противопоставление свободы детерминизму. Ведь вовсе не детерминизм, а наоборот, его противоположность — индетерминизм на деле подрывает понятие ответственности, тесно связанное с представлением о свободе. Эволюционно-детерминистический же взгляд на вещи позволяет объяснить появление существ, способных избегать неблагоприятных ситуаций на основе предварительной оценки различных вариантов поведения. Только в этом контексте и следует говорить о свободе. Реальное содержание этого понятия сводится к констатации того факта, что разумный человек живет в ситуации постоянного выбора. В учении о свободе, как и в других частях своей системы, Деннет старается избегать резких суждений, подчеркивая гипотетический или модельный характер ряда своих построений. Тем не менее многие воспринимают его как философского экстремиста. Прежде всего это связано с настойчивым стремлением Деннета показать достаточность объективистского подхода к сознанию. Он прямо заявляет о возможности «дисквалифицировать» субъективные состояния, или «качества» (qualia), и отрицает правомерность разного рода мысленных экспериментов, задуманных для демонстрации нередуцируемости субъективного компонента сознания, в частности гипотетическогоотличения сознательных человеческих существ от их лишенных сознания поведенческих близнецов — зомби. Деннет скорее готов объявить всех людей зомби, чем согласиться с выводом о нередуцируемости сознания, иллюзия которой возникает в связи с неполнотой нашего знания о мозге. И хотя некоторые философы, к примеру Р. Рорти, поддерживают эти взгляды Деннета, неудивительно, что они вызывают резкие возражения у других авторов. Одним из самых агрессивных оппонентов Деннета является американский философ Дж. Серл, которому посвящена следующая глава. Литература1.Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М., 2004. 2.Деннет Д. Постмодернизм и истина. Почему нам важно понимать это правильно // Вопросы философии. 2001. № 8. 3.Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз разума. Фантазии и размышления о самосознании и о душе. М., 2003. 4.Dennett D. С. Content and Consciousness. Boston, 1969. 5.Dennett D. C. Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and Psychology. Cambridge, 1981. 6.Dennett D. C. Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting. Cambridge, 1984. 7.Dennett D. С The Intentional Stance. Cambridge, 1987. 8.Dennett D. C. Consciousness Explained. Boston, 1991. 9.Dennett D. С. Darwin's Dangerous Idea. N. Y., 1995. 10.Dennett D. C. Brainchildren: Essays on Designing Minds. L, 1998. 11.Dennett D. С. Freedom Evolves. N. Y., 2003. 12.Дубровский Д. И. В «Театре» Дэниэла Деннета (по поводу одной популярной концепции сознания» // Философия сознания: история и современность. М., 2003. С. 196-208. 13.Юлина Н. С. Д. Деннет о проблеме ответственности в свете механистического объяснения человека // История философии. № 8. М., 2001. 14.Юлина Н. С. Дэниел Деннет: самость как «центр нарративной гравитации» или почему возможны самостные компьютеры // Вопросы философии. 2003. № 2. 15.Юлина Н. С. К. Поппер и Д. Деннет: архитектура сознания согласно «открытой» и «закрытой» Вселенной // Философия сознания: история и современность. М., 2003. С. 208-216. 16.Elton M. Daniel Dennett. Reconciling Science and Our Self-Conception. Cambridge, 2003. Глава 25. СЕРЛ Джон Сёрл родился в Денвере (штат Колорадо) в 1932 г. С 1949 по 1952 г. он учился в университете Висконсина, а затем поступил в Оксфорд, где оставался до 1959 г. В том году он защитил докторскую диссертацию, вернулся в США и обосновался в университете Беркли, где он работает уже более четырех десятилетий. В 1967 г. Серл стал профессором этого университета и через два года выпустил свою первую книгу «Речевые акты: эссе по философии языка». За ней последовал ряд других монографий и сборников статей, в том числе «Выражение и значение: исследования по теории речевых актов» (1979), «Интенциональность: эссе по философии сознания» (1983), «Психика, мозг и наука» (1984), «Открывая сознание заново» (1992), «Конструирование социальной реальности» (1995), «Тайна сознания» (1997), «Сознание и язык» (2002), «Психика: краткое введение» (2004). Следует также особо отметить работу 1998 г. «Сознание, язык и общество, философия в реальном мире», в которой Серл попытался объединить главные темы своих изысканий. Философия языка. В студенческие годы Серл испытал влияние идей основателей аналитической философии Г. Фреге и Л Витгенштейна. Определенное воздействие на него оказали также Г. Райл и идеолог возвращения аналитической философии к метафизике П. Стросон. Еще больше Серл был обязан своему научному руководителю в Оксфорде Дж. Остину. Остин совершил поворот от популярной в то время «лингвистической философии», занимавшейся анализом метафизических искажений обыденной речи, к «философии языка», исследующей фундаментальные структуры речи, и заложил основу теории «речевых актов», т. е. осмысленных высказываний. Он полагал, что речевой акт включает три составляющие — 1) собственно говорение, 2) цель говорения и 3) последствия говорения. Рассматриваемый в первом аспекте, он именуется «локутивным актом», во втором — «иллокутивным», в третьем —- «перлокутивным». Остин также предпринял попытку систематизации иллокутивных актов, образующих основу речи, но не успел завершить этот проект. Серл подхватил его начинание и разработал детальную классификацию иллокутивных актов, получившую широкое признание в лингвистической среде: «ассертивы» (цель — отражение реального положения вещей), «директивы» (побуждение кого-нибудь к действию), «комиссивы» (связывание обязательством самого говорящего), «декларации» (изменение действительности самим фактом речевого акта, как в случае торжественных формул при заключении брака и т. п.) и «экспрессивы» (выражение состояний говорящего). Иллокутивные акты, подчеркивает Серл, всегда имеют коммуникативный аспект, который, однако, предполагает наличие у них репрезентативной со-ставляющей. Но сами по себе произносимые слова и предложения ничего не репрезентируют и не обозначают. Эта их роль производна и атрибутируется им говорящими и слушающими. Подобное атрибутирование, считает Серл, возможно лишь при наличии у таких субъектов ментальных состояний, структуру и содержание которых, собственно, и отражают иллокутивные акты. К примеру, приказание, отдаваемое одним человеком другому, предполагает некое желание первого, а также его убежденность в возможности добиться исполнения этого желания с помощью того, кому дается директива. Учитывая фундирующую роль ментальных состояний в конституировании речевых актов, Серл заключает, что «философия языка является ветвью философии сознания» (5: VII). Интенциональность. Анализ языка, таким образом, перерастает у Серла в исследование ментальности. Поскольку речевые акты, зависящие от определенных ментальных состояний, репрезентативны, логично предположить, что и сами эти состояния могут быть таковыми. И хотя Серл признает существование нерепрезентативных ментальных состояний, таких как беспричинное беспокойство, важнейшие ментальные состояния, по его мнению, действительно имеют репрезентативную природу. Серл называет их «интенциональными», т. е. нацеленными на какой-то объект. Репрезентативный аспект понятия интенциональности раскрывается учением об «условиях реализации» интенциональных состояний. Скажем, условием реализации убежденности человека в существовании элементарных частиц является действительное существование последних, которое данное интенциональное состояние, таким образом, репрезентирует. Направление соответствия между этим состоянием и миром — от состояния (или его вербальной формулировки) к миру. В случае желаний направление меняется на противоположное, и условием реализации желаний оказывается приведение мира в соответствие с желаемым положением дел. Интенциональные состояния, по Серлу, всегда имеют «аспектуальный» характер, т. е. представляют вещь «как-то», под определенным углом или в соотнесении с какой-то категорией. От них также неотделима та или иная настроенческая тональность. Кроме того, «всякое интенциональное состояние, — утверждает Серл, — имеет интенциональное содержание и психологический модус» (5: 12). Изначальными психологическими модусами, по его мнению, являются восприятие и намерение, но в классификационных целях в качестве базовых модусов лучше рассматривать их производные формы — убеждение (belief) и желание (desire). Все другие интенциональные состояния включают какие-нибудь убеждения и желания, «и во многих случаях интенциональность таких состояний может быть объяснена какими-либо убеждениями и желаниями» (5: 35). В ранних работах Серл признавал наличие не только сознательных, но и бессознательных убеждений и желаний, и утверждал, что они складываются в Сеть (Network) интенциональных состояний, поддерживающих друг друга. К примеру, осознанное желание человека участвовать в президентской гонке предполагает его убежденность в существовании института президентства, конституции и т. п., причем далеко не все подобные убеждения могут актуально осознаваться. В программной работе «Открывая сознание заново» Серл, однако, отказался от тезиса о существовании бессознательных интенциональных состояний и обвинил Фрейда в навязывании философам ХХ в. этой ошибочной теории. Все ментальные состояния, заявлял теперь Серл, должнысопровождаться сознанием, хотя не все они осознаются в равной степени — это зависит от уровня внимания. Помимо сознания в мозге есть только нейронные процессы. Некоторые из них, не имеющие отношения к актуальным интенциональным состояниям, в прошлом были связаны с ними и при случае вновь могут вызвать их. Такие процессы соответствуют тому, что он прежде называл бессознательными интенциональными состояниями Сети. При этом Серл отмечал, что, независимо от трактовки Сети, интенциональные состояния не являются самодостаточными, поскольку нельзя задать однозначные условия реализации конкретных состояний таково рода ни самими этими состояниями, ни их Сетью. Иллюстрацией сказанного является вариативность буквального значения слов в речевых актах. Так, слово «резать» имеет разные значения в предложениях «режь траву» и «режь торт», хотя в обоих случаях речь идет о буквальном, а не метафорическом значении. Конкретное значение слова, таким образом, определяется контекстом. Но этот контекст нельзя в полной мере выразить другими словами в силу аналогичной семантической недостаточности последних. Это верно не только для речевых актов, но и для других интенциональных актов и состояний. Чтобы избежать опасности бесконечного регресса, Серл предлагает допустить существование неэксплицированного и неинтенционального Фона (Background), задающего условия реализации интенциональных состояний. В онтологическом смысле Фон, как и Сеть, являет собой совокупность нейронных процессов в мозге. Сеть можно даже рассматривать как часть фона. Но специфически фоновые процессы обычно не связаны с интенциональными состояниями, а формируют то, что можно назвать диспозициями, «способностями» и привычками, иначе говоря, «культурными и биологическими ноу-хау» (5: 148). Серл, таким образом, полагает, что контекст интенциональных состояний может создаваться не только универсальными биологическими диспозициями людей, вроде способности к прямохождению, а также «установками по умолчанию» (default positions), такими как «доинтенциональные» предположения о существовании материального мира вне нашего сознания, о возможности непосредственного контакта с этим миром и т. п. — Серл называет все это «глубоким фоном», — но и «локальными культурными практиками» (8: 109). Это, однако, не означает, что социокультурная реальность существует независимо от человеческой интенциональности. В «Конструировании социальной реальности» Серл, напротив, доказывает, что эта реальность производна от особой, «коллективной интенциональности»: «мы хотим того-то», «мы убеждены в том то» и т. п. Коллективная интенциональность зарождается в совместных действиях, таких как охота. Серл уверен, что она «не может быть редуцирована к индивидуальной интенциональности» и являет собой продукт эволюции, «биологически изначальный феномен» (6: 24). Уже одно наличие коллективной интенциональности позволяет говорить о «социальных фактах». Но коллективная интенциональность есть и у животных. Специфика же человеческой социальной жизни состоит в существовании общественных институтов. Они возникают, когда коллективная интенциональность обогащается языком, что позволяет придавать каким-либо естественным объектам символическое значение, наделять их «статусом», влекущим за собой те или иные функции, не вытекающие из их физической природы. Социальные институты эпистемологически объективны и общезначимо маркированы, но в онтологическом плане они не обладают сущест-вованием, независимым от мыслящих человеческих существ. К примеру, деньги являются деньгами, пока люди считают их таковыми. Каждый социальный институт может быть описан набором правил, определяющим его функциональное значение. Но из этого не следует, что все люди должны заучивать эти правила, чтобы ориентироваться в социальной реальности. Многие просто привыкают к ней, вырабатывая соответствующие схемы поведения, входящие в состав Фона. Онтология. Рассуждения Серла о субъективной природе социальной реальности встроены в более широкий контекст создания им унифицированной онтологической картины мира. Трудность этой задачи, по его мнению, состоит в том, что хотя «фундаментальнейшие черты мира описываются физикой, химией и другими естественными науками» (6: 1), в нем есть громадное множество фактов, которые не относятся к естественным наукам. Их надо тем не менее каким-то образом базировать на «грубых фактах» физического мира. Анализ природы институциональных фактов и социальной реальности являет собой первый шаг в этом направлении. Социальная реальность, как показывает Серл, не может быть названа объективной реальностью, и она зависит от ментальных состояний человеческих субъектов. Главная проблема, однако, в том, как объяснить отношение самих ментальных состояний к миру атомов и молекул. Впрочем, Серл не считает ее очень сложной. Он полагает, что сознательные ментальные состояния каузально порождаются мозгом и реализуются в нем. Такой подход позволяет Серлу говорить о сознании как естественном биологическом феномене. Хотя, в отличие от других феноменов такого рода, сознание чисто субъективно, тем не менее оно может оказывать влияние на физиологические процессы, когда, к примеру, осознанное желание сделать что-то вызывает соответствующее поведение. Чтобы проиллюстрировать возможность подобной «интенциональной каузальности», Серл проводит аналогию между сознанием как феноменом, порождаемым взаимодействием множества нейронов в мозге, и комплексными природными явлениями, в которых свойства целого не могут быть сведены к свойствам составляющих их частей. Скажем, вода текуча, но этого нельзя сказать об образующих ее молекулах. Между тем очевидно, что текучесть воды может играть каузальную роль в физических процессах. То же можно сказать о сознании и интенциональных состояниях. Споры о сознании. Таким образом, заключает Серл, социальная реальность, речевые акты и фундирующие их ментальные состояния могут быть органично встроены в физическую картину мира, что и надо было показать. Но Серл не ограничивается изложением своей позитивной доктрины. Он также отбраковывает альтернативные концепции. В частности, он отвергает дуалистический подход к решению проблемы сознание — тело (mind-body problem), возрожденный К. Поппером и Дж. Экклзом, так как считает его противоречащим физическому единству мира. Отрицательно он относится и к попыткам «онтологической редукции» сознания, предпринятым «элиминативными материалистами», такими как Р. Рорти и П. Фейерабенд, а также сторонниками «теории тождества» Г. Фейглом, Д. Д. Смартом и др., которые хотят элиминировать ментальное и приравнять психические состояния к нейронным процессам. Эти философы либо предполагают, что психические состояния необходимо тождественны нейронным событиям, чему, однако, противоречит то, что они могут мыслиться раздельно (в этом вопросе Серл солидарен с С. Крипке), либо говорят не о сущностном, «типовом» тождестве,а только о том, что конкретные ментальные состояния тождественны конкретным нейронным событиям, хотя последние могут быть разными у разных индивидов. В этом случае, однако, для объяснения данного обстоятельства приходится прибегать к функционалистским аргументам и говорить, что «нейрофизиологическое состояние становилось определенным ментальным состоянием благодаря своей функции» (1: 57). Но функционалистские объяснения сознания, либо впадающие в бихевиоризм (имеющий в последние годы тенденцию к возрождению под именем коннективизма), либо приравнивающие сознание к компьютерным программам или вычислительным процессам, вызывают ничуть не меньшее неприятие Серла, а теорию Д. Деннета, последовательно проводящего «компьютерную линию», он вообще объявляет продуктом «интеллектуальной патологии» (7: 112). Доказывая ложность компьютерной теории сознания, Серл еще в 1980 г. выдвинул — вызвавший громадный резонанс — мысленный эксперимент, который он назвал «аргументом китайской комнаты». Он предложил представить человека в запертой комнате с набором китайских иероглифов, совершенно непонятных для него, и правилами их комбинирования для адекватных ответов на вопросы на китайском, задаваемые людьми, находящимися за стеной. Такой человек может быть приравнен к компьютеру с инсталлированной программой для общения на китайском языке. Хотя его собеседникам будет казаться, что он понимает по-китайски, очевидно, что это не так. Этот человек просто механически комбинирует символы, совершенно не представляя, о чем его спрашивают, и что он отвечает. Смысл данного эксперимента прост: искусственный интеллект не может отождествляться с естественным. Принципы их работы совершенно различны. Первый сводится к операциям с символами, к чистому синтаксису, второй наделен реальной интенциональностью, позволяющей ему иметь не только синтаксис, но и семантику. «Китайская комната», таким образом, опровергает «сильную версию» искусственного интеллекта (ИИ), т. е. мнение о том, что обладание сознанием тождественно инсталляции компьютерной программы. Вместе с тем Серл поддерживает «слабую версию» ИИ, согласно которой ментальные процессы могут быть смоделированы программой такого рода. Он решительно выступил против Р. Пенроуза, который, опираясь на знаменитую теорему Гёделя, попытался доказать неалгоритмизируемость человеческого сознания. Но компьютерное моделирование ментальной жизни, считает он, так же мало может породить сознание, как моделирование грозы — вызвать дождь. А трактовать человеческий мозг как «цифровой компьютер», по мнению Серла, некорректно. Ведь компьютеры, в отличие от мозгов, лишены объективной реальности, так как природные феномены, задействуемые при создании этих устройств, не существуют как вычислительные процессы, а всего лишь интерпретируются нами в качестве таковых. Поэтому, хотя людей по праву можно называть «мыслящими машинами», именование человеческого мозга цифровым компьютером является примером неточного словоупотребления. Резкие выпады Серла в адрес оппонентов порождают волны ответной критики, которая тем более опасна, что его теории не лишены внутренних проблем. Один только аргумент китайской комнаты вызвал сотни критических откликов, многие их которых состояли в попытке доказать, что Серл неправомерно отождествляет человека в комнате с субъектом понимания китайского языка, которым должна быть, по их мнению, признана вся система, т. е. вся комната в це-лом. Много нареканий вызывает и учение Серла об интенциональной и ментальной каузальности. Он и впрямь не вполне четко разъясняет, как сознательные состояния могут вызывать телесные движения и как это согласуется с существованием чисто нейрофизиологических причин последних. Он говорит, что ментальная каузальность — это просто высокоуровневое описание нейронной каузальности, но не поясняет, как подобный редукционизм согласуется с тем, что низкоуровневое и высокоуровневое объяснения, по его же словам, соотнесены с разными типами существования, с объективной и субъективной онтологиями. Кроме того, Серл провозглашает единство сознания, «трансцендентальное единство апперцепции», фундаментальной чертой ментальной жизни, но остается не до конца ясным, как мозаичные нейронные процессы могут обеспечивать это единство. В этом смысле более адекватной данным современной нейронауки выглядит деннетовская теория «множественных набросков». Деннет считает, что учение Серла о сознании к тому же лишено позитивной исследовательской программы. Это обвинение может показаться странным, но оно имеет свои резоны. Хотя Серл подчеркивает, что сознание является «системным свойством» мозга, он не дает внятных объяснений, каким образом надо изучать каузальный механизм его порождения. Разбирая в «Тайне сознания» работы Ф. Крика и Дж. Эдельмана, выдвинувших конкретные гипотезы о нейрофизиологических основах сознания, он замечает, что, даже если они подтвердятся, «тайна» или хотя бы «проблема» останется. Суть в том, что хотя Серл согласен, что первоначальный ответ на вопрос о причинах сознания может быть дан в таких нейрофизиологических терминах, как «синапс», «пептид», «ионные каналы», «40 Гц» (гипотеза Крика и К. Коха), «нейронные карты» (Эдельман) и т. п., «так как они составляют реальные черты реального механизма, который мы изучаем», но он подчеркивает, что «впоследствии мы можем открыть более общие принципы, позволяющие нам абстрагироваться от биологии» (7: 176). Иными словами, говоря о том, что сознание каузально обусловлено мозгом, Серл вовсе не имеет в виду, что нейронные или иные процессы в мозге являются необходимым условием сознания. Речь идет лишь о достаточном условии, из которого впоследствии могут быть удалены все необязательные компоненты и экстрагировано некое каузальное ядро, зная которое в принципе можно будет сконструировать сознающие небиологические объекты, если, конечно, не выяснится, что чисто биологические компоненты входят в его состав. Проблема, однако, в том, что Серл считает, что в настоящее время мы не только не можем указать это ядро, но и представить, чем оно в принципе может быть. Неудивительно, что такой подход может показаться бесперспективным, в отличие от различных проектов компьютерного моделирования сознания. Преодолеть недостатки теории сознания Серла и компьютерно-функционалистского подхода к психике посредством радикального объединения их сильных сторон попытался Дэвид Чалмерс. С одной стороны, как и Серл, он показывает нередуцируемость субъективного опыта человека. С другой — утверждает, что все внешние проявления этого опыта могут быть эксплицированы в терминах функционалистской теории психики в духе Деннета. Наконец, он постулирует «когерентность» субъективного и функционального уровней и допускает их общий онтологический корень в Информации. Книгу Чалмерса «Сознающий ум» (1996), в которой изложена эта теория, обозначенная ее автором как «натуралистический дуализм», многие восприняли как прорыв в изучении сознания. Серл, однако, объявил эту работу «на-громождением путаницы» и коллекцией абсурдов. Надо признать, что, исходя из правдоподобных посылок и добросовестно развивая их, Чалмерс действительно пришел к шокирующим выводам о существовании примитивных форм сознания у компьютеров, термостатов и вообще у всего. Он также доказывал, что наличие субъективных сознательных состояний не может считаться причиной наших отчетов об этих состояниях. Упрекая Чалмерса, Серл апеллировал к здравому смыслу. История философии, однако, показывает, что обращение мыслителей к этому источнику не всегда свидетельствует о прочности их теоретических позиций, так как здравый смысл обычно «заряжен» некритичной метафизикой. В любом случае именно Серл является главным представителем философии здравого смысла в современных спорах о сознании. Долгое время он, правда, утверждал, что по крайней мере одна из аксиом здравого смысла («установок по умолчанию») отвергается им. Речь идет о существовании личности как чего-то отличного от тела. Однако в работе 2001 г. «Рациональность в действии» Серл заявил о модификации своих прежних воззрений и необходимости принятия «неюмовской» концепции личности как некоей самостоятельной сущности, без которой, в частности, невозможно объяснить наличие «разрыва» между человеческими желаниями и их исполнением, разрыва, составляющего самую суть человеческой рациональности и выражающего фундаментальный феномен свободы воли. Литература1.Серл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002. 2.Сёрль Дж. Рациональность в действии. М., 2004. 3.Searle J. R. Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge, 1969. 4.Searle J. R. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge, 1979. 5.Searle J. R. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge, 1983. 6.Searle J. R. The Construction of Social Reality. L, 1995 (1996). 7.Searle J. R. The Mystery of Consciousness. L., 1997 (1998). 8.Searle J. R. Mind, Language and Society. N.Y., 1998 (PB Ed. 1999). 9.Searle J. R. Mind: A Brief Introduction. Oxford, 2004. 10.Грязнов А. Ф. Джон Сёрл и его анализ субъективности // Серл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002. С. 7 —10. 11.Дубровский Д. И. Новое открытие сознания? // Вопросы философии. 2003. № 7. 12.Золкин ?. Л. Аналитическая и герменевтическая философия языка. М., 2000. С. 237-257. 13.Мареева Е. В. Д. Серл: старое и новое в понятии сознания // Философия сознания: история и современность. М., 2003. С. 216 — 231. 14.Кузнецов В. Н. Проблема сознания в философии Жюльена-Офре де Ламетри и «философия сознания» Джона Серла // Философия сознания: история и современность. М., 2003. С. 28 — 35. Глава 26. ПИНКЕР Дискуссии о соотношении ментального и физического, о которых шла речь в предыдущих главах, могут быть квалифицированы в качестве метафизической части современной философии сознания. Несмотря на несомненную продуктивность подобных обсуждений, некоторые философы высказывают сомнения в возможности добиться позитивных результатов в данной области и приводят аргументы в пользу своей точки зрения. К примеру, К. Макгинн считает, что человеческий разум, возникший в процессе естественного отбора, просто не предназначен для разрешения вопросов такого рода. Позицию Макгинна поддерживает один из известнейших философов наших дней — Стивен Пинкер (в апреле 2004 г. журнал Time включил его в сотню самых влиятельных людей мира). Пинкер родился в 1954 г. в Монреале. Он получил степень бакалавра по экспериментальной психологии в университете МакГилл в Монреале в 1976 г. и докторскую степень в 1979 г. в Гарвардском университете. С 1982 по 2003 г. Пинкер работал в Массачусетском технологическом институте, а в 2003 г. стал профессором кафедры психологии в Гарварде. В начале своей научной карьеры Пинкер в качестве экспериментального психолога занимался проблемами визуального восприятия и распознавания форм. Затем он переключил основное внимание на психолингвистику. Он испытал воздействие идей Ноэма Хомского, самого влиятельного гуманитария второй половины ХХ в., автора концепции «универсальной грамматики», допускающей существование врожденных языковых механизмов, общих всем людям. Еще в 50-е годы Хомский оппонировал бихевиористу Б. Ф. Скиннеру, пытавшемуся объяснить человеческую способность к речи на основе ассоцианистской модели внешнего «подкрепления» вербальных действий без предположения специфических внутренних диспозиций. Но показав, что человеческая речь нереальна без подобных врожденных структур, объясняющих способность детей легко усваивать сложнейшие грамматические правила и генерировать потенциально бесконечное множество новых языковых единиц, Хомский не прояснил вопрос об их происхождении. Не удовлетворенный такой позицией, Пинкер попытался найти эволюционное истолкование врожденным языковым механизмам. Он суммировал результаты своих исследований в работе «Язык как инстинкт» (1994), где он трактует язык как важный адаптивный механизм, позволяющий получать и распространять жизненно важную информацию. Позже он опробовал эволюционный подход на других компонентах человеческого сознания, таких как восприятие и категориальное мышление. Результатом этих усилий сталапубликация книги «Как работает сознание» (1997), быстро ставшей бестселлером. В 2002 г. Пинкер выпустил еще более масштабный труд «Чистая доска. Современное отрицание человеческой природы», в котором дан обобщенный образ человеческой природы и проанализированы его возможные культурные и политические импликации. Человеческая природа мыслится Пинкером как своего рода прецизионный ментальный агрегат, состоящий из множества разнородных механизмов и тонко настроенный на изначальное естественное и социальное окружение человека. Платой за такую специализацию оказывается, однако, энигматичность основ сознания и наличие других «вечных загадок», перед которыми останавливается наш разум. Ведь разум — один из ментальных механизмов. Он тоже имеет алгоритмическую, «вычислительную» природу и предназначен для правилосообразного объединения смысловых элементов. Поэтому он не в состоянии схватывать «холистские», «безумно простые» вопросы, имеющие отношение не к суммированию элементов, а к самим элементам. К таким вопросам как раз и могут быть причислены традиционные проблемы философии — сознание-тело, природа личности, свобода воли, референция, универсалии и долженствование. При рассмотрении таких проблем разум напоминает беспомощно распластанную по земле птицу с роскошными крыльями (см. 3: 565). Итак, загадка сознания и другие «вечные вопросы», считает Пинкер, по всей видимости, должны оставаться без ответа. Он по праву возводит такой подход к установкам Юма. Но, как и Юм, он не ограничивается скептическими констатациями. Пинкер уверен, что сами эти констатации в наши дни свидетельствуют о «великом прогрессе в понимании человеческой психики» (3: 563). Ведь они предполагают оценку психики с эволюционистских и «вычислительных» позиций. Именно на основе «эволюционной психологии», включающей в себя «вычислительную теорию сознания», философы могут обрисовать основные черты человеческой природы. Мифы о человеке. Позитивную теорию человеческой природы Пинкер предваряет критическим разбором популярных мифов о человеке, бытующих в академической среде, но подчас открыто противоречащих здравому рассудку. Главной мишенью для Пинкера, так же как и для повлиявших на него создателей современной эволюционной психологии Л. Космидес и Дж. Туби (первые попытки построения психологии такого рода исходили уже от Дарвина), выступает так называемая Стандартная социальная научная модель (ССНМ), доминировавшая в гуманитарных дисциплинах ХХ столетия. По этой модели поведение человека, в отличие от животных, «определяется культурой, автономной системой символов и ценностей» (1: 386). Культуры допускают самые широкие вариации и могут формировать человека в нужном направлении. Биологические ограничения для подобного воздействия, согласно стандартной модели, незначительны: дети, «рождаясь, не имеют почти ничего, кроме нескольких рефлексов» и недифференцированной «способности к обучению»; они «постигают свою культуру через обучение, поощрение и наказание и ролевые модели» (1: 386). Ядро этой схемы, разновидностями которой являются марксистская теория сущности человека как совокупности общественных отношений, гендерный феминизм с его концепцией «ролевой» природы пола и другие концепции, может быть выражено старой формулой: человек — это «чистая доска», заполняемая внешними воздействиями.Помимо мифа о «чистой доске» «сакральный статус в современной интеллектуальной жизни», отмечает Пинкер, получили и два других заблуждения, а именно теория «благородного дикаря» и концепция «духа в машине» (4: 6, 9). Первая из них, восходящая к идеям Руссо, идеализирует «естественное» состояние человечества, вторая, связанная с именем Декарта, трактует сознание, или «дух», как самостоятельную сущность. Хотя эти догмы логически независимы от теории «чистой доски», «на практике они часто встречаются вместе» (4: 10). Изначальная «чистота» человека указывает на цивилизацию как на источник всех пороков, а бесструктурность его природы наводит на мысль, что все его сложные действия выполняются духом. Пинкер пытается фальсифицировать эти теории фактами. Благородные дикари существуют только в воображении. Реальные оценки уровня насилия в различных сообществах показывают тенденцию его снижения с развитием цивилизации. Не является человек и «чистой доской», причем врожденными, т. е. не определяемыми средой, являются не только общие способности, но и ряд индивидуальных характеристик, что подтверждается, в частности, значительным психическим сходством выросших раздельно близнецов. Сложность человеческой природы делает ненужным допущение особой духовной сущности, управляющей человеческими поступками. Модульный подход к человеческой природе. Разрушение мифов о человеке позволяет Пинкеру перейти к конструктивной характеристике человеческой природы. Прежде всего его интересует ее ментальная составляющая — сознание, или психика (mind). Но он трактует психику не в субстанциальном смысле, а как результат деятельности мозга. Человеческий мозг — орган, сформировавшийся в результате эволюции как особое устройство по обработке информации. Соответственно, и психика должна рассматриваться в качестве «системы вычислительных органов, спроектированных естественным отбором для решения тех типов задач, с которыми сталкивались наши предки в своей первобытной жизни» (3: 21). Критика Р. Пенроузом и Дж. Серлом вычислительных теорий сознания не убеждает Пинкера. Пенроуз, считает он, допустил массу грубых ошибок, а Серл откровенно злоупотребляет здравым смыслом. Но Пинкер не является сторонником отождествления субъективных состояний сознания с вычислительными процессами в мозге. Каждый ментальный орган, или модуль, полагает он, имеет свою особую внутреннюю архитектуру и назначение. «Базовая логика» любого модуля определяется нашей генетической программой. Подзадачи, которые решал тот или иной модуль у наших предков, являлись частью «одной большой проблемы для их генов — максимизирования числа копий, передаваемых следующему поколению» (3: 21). Соответственно, одной из главных задач при изучении ментальных модулей должна, по Пинкеру, стать процедура «обратной инженерии», позволяющая ответить на вопросы, «когда и почему» они возникли. Подобные исследования кажутся попытками возродить телеологический подход к изучению человека. Но хорошо известно, насколько нелепыми или даже анекдотичными могут быть поиски ответов на вопрос: «Для чего?» Кроме того, телеологический анализ кажется лишенным реальной предсказательной ценности, характеризующей научные изыскания. Пинкер понимает эти опасности. Он сам приводит примеры псевдоэволюционистской обратной инженерии: «Какой цели служит музыка? Она сплачивает сообщество. Почему эволюционировало счастье? Потому что со счаст-ливыми людьми хорошо быть рядом, так что они привлекали больше союзников. Какова функция юмора? Снимать напряжение» и т. п. (3: 37). Слабость этих объяснений в скудной фактологической базе и в том, что они опираются на предпосылки, которые сами нуждаются в объяснении. В самом деле, «почему ритмические звуки сплачивают сообщество? Почему людям нравится быть рядом со счастливыми людьми? Почему юмор снимает напряжение? » (3: 38). Правильный подход предполагает реализацию следующих процедур. Сначала конкретизируется цель, которая должна быть достигнута организмом. Затем устанавливается, какой механизм в наибольшей степени способствовал бы ее реализации. И лишь после того, как мы a priori устанавливаем, каким должно быть в данной ситуации «хорошо спроектированное сознание», мы должны на опыте установить, является ли наше сознание таковым. При надежной опоре на факты у таких гипотез появляется и предсказательная ценность. Понимание изначальных функций того или иного ментального модуля позволяет прогнозировать его возможные реакции в новой среде, в которой оказалось человечество. Подчас это помогает решать конкретные проблемы практического, политического или даже искусствоведческого свойства. Эмпирический алгоритм установления врожденных ментальных модулей, по Пинкеру, выглядит так. Скажем, если речь идет о распознавании форм, то после того, как мы в общем виде решили, может ли система, распознающая, к примеру, мебель, распознавать также и лица, или для этого нужен особый алгоритм, «используя данные биологической антропологии, мы можем поискать свидетельства тому, приходилось ли нашим предкам решать эту проблему в тех условиях существования, в которых они эволюционировали» (1: 400). Далее надо обратиться к данным этнографии или психологии: если какой-то модуль врожден, то, к примеру, дети, решающие соответствующие задачи, «должны выглядеть как гении, зная те вещи, которым их не учили». Наконец, «если модуль для какой-то проблемы реально существует, неврология должна обнаружить, что в мозговой ткани, задействованной при решении этой проблемы, есть определенного рода физиологические связи, такие, например, которые образуют систему или подсистему» (1: 400). Используя эти критерии, Пинкер допускает существование в человеческой психике следующих основных модулей, или «семей инстинктов»: язык, восприятие,, интуитивная механика, интуитивная биология, числа, ментальные карты для больших территорий, выбор места обитания, инстинкты, связанные с опасностью, пищей, зараженьями и болезнями, наблюдение за своим состоянием, интуитивная психология, база данных на отдельных личностей, самопознание, справедливость, родство, половое партнерство (1: 400 — 401). Приведенный список ментальных модулей существенно отличается от традиционной классификации психических способностей в «стандартной психологии», растаскивающей свой предмет по рубрикам восприятия, памяти, внимания, мышления, эмоций, а также развития, личности, аномалий и т. п. Изучение сознания по способностям столь же эффективно, считает Пинкер, как изучение машины сначала по ее стальным частям, затем алюминиевым и т. п. Реальная человеческая психика такова, что ее врожденные модули могут заключать в себе компоненты самых разных общих способностей. Модульный подход, убежден Пинкер, это настоящая революция в психологии. В отличие от традиционных взглядов он кажется контринтуитивным, но это не более чем видимость, так как новейшие экспериментальные данныебуквально сокрушают привычные картины ментальной жизни. Так, исходя из стандартной теории общих способностей, таких как разум, репродуктивное воображение и др., трудно допустить, что человек может, к примеру, узнавать вещи, но не узнавать людей, или обладать высоким интеллектом, но не владеть правилами комбинирования слов в предложении и т. п. Факты, однако, показывают реальность подобных случаев, которые, как считает Пинкер, могут быть в полной мере объяснены лишь в модульной теории психики, хотя этот тезис оспаривается представителями коннективистского направления современной философии сознания, такими как П. Черчленд, пытающимися доказать, что даже если в мозге имеются только нейронные сети общего назначения, они способны обучаться решению специализированных задач[58]. Врожденные ментальные модули, утверждает Пинкер, могут функционировать только при взаимодействии с окружающей средой. К примеру, языковой инстинкт становится способностью говорить по-английски или по-французски. Общая схема взаимодействия врожденных ментальных структур и среды, по Пинкеру, такова. Биологическая наследственность человека «закладывает внутренние психические механизмы», в том числе обучающие. Благодаря последним мы можем усваивать умения, навыки, знания и ценности, в совокупности составляющие культуру. Они развивают остальные психические модули, подготавливая их к обработке исходной информации из окружающей среды. Взаимодействие всех этих факторов порождает определенное поведение (см. 1: 389). Концепция культуры. Для адекватного понимания этой схемы необходимо уточнить роль культуры. Как уже отмечалось, Пинкер отказывается признавать ее автономной реальностью. Вместе с тем он критикует и номиналистическую концепцию культуры в ее «меметическом» варианте. Аналогия изменения и распространения культурных единиц, мемов, с процессом мутаций и естественного отбора, считает он, весьма условна. Ведь модифицирование мемов, происходящее в результате сознательных умственных усилий людей, мало похоже на биологические мутации в результате ошибок при копировании ДНК. Более перспективна, по его мнению, так называемая эпидемическая теория культуры. Культура — «это совокупность технологических и социальных изобретений, аккумулируемых людьми для облегчения своей жизни», не более того (4: 65). Эти изобретения существуют не сами по себе, а в умах людей или в закодированной форме на материальных носителях. Различные культурные технологии потенциально, а иногда и актуально конкурируют между собой, причем более удачные получают быстрое распространение, как при эпидемии. Несмотря на «болезнетворные» метафоры, в этой концепции культуры содержится, уверен Пинкер, немало оздоровляющих моментов. Ведь одни технологии могут быть эффективнее других и, при столкновении, вытеснять последние. Важно понять, что в этом нет ничего страшного. Культуры могут меняться. Большой ошибкой являются попытки абсолютизировать ценности культуры, придавать чрезмерное значение национальным культурным различиям и т. п. Таким образом, абсолютизация культуры, осуществлявшаяся в Стандартной социальной научной модели, искажает реальную роль последней, сводящуюся к созданию условий для максимально эффективной реализации врожденных ментальных механизмов, и в известном смысле восстает против самой природы человека. История ХХ в., утверждает Пинкер, дала немало примеров замалчивания и игнорирования человеческой природы, в том числе в сфере художественного творчества (иллюстрацией чего он считает модернистское и постмодернистское искусство), а также целенаправленных попыток ее полного переделывания, которые не могли не закончиться провалом. Приверженцы идеологии «чистого листа» оправдывали свою позицию тем, что признание врожденных ментальных качеств и склонностей людей, таких как эгоистичность или агрессивные побуждения, неизбежно ведет к узакониванию дискриминации, насилия и другим пагубным последствиям. Пинкер решительно не согласен с такими утверждениями, показывая, что в их основе лежит так называемая «натуралистическая ошибка» (naturalistic fallacy). Она состоит в том, что природное, естественное, автоматически приравнивается к хорошему. Это означает, что если человеку, к примеру, от природы присуща склонность к агрессии, то агрессия должна быть оправдана. Но этот способ умозаключения ошибочен. Сущее нельзя смешивать с должным. Впрочем, представление о должном тоже коренится в человеческой природе (хотя этика, как и математика, может иметь свою объективную логику). Пинкер показывает, что «моральное чувство», трактуемое им как совокупность альтруистических эмоций, таких как стыд, сострадание, справедливость и т. д., как и другие компоненты человеческой природы, является продуктом эволюции. Альтруизм является выгодной приспособительной тактикой. Но это не значит, что мораль можно отождествить со скрытой формой эгоизма. Пинкер согласен с тезисом Р. Доукинса об «эгоистичности» генов индивида, но он подчеркивает, что метафорическая эгоистичность этих генов не должна отождествляться с эгоистичностью самого индивида. Максимальному распространению генов, присущих этому индивиду, может способствовать его подлинно альтруистичное поведение, так как копии этих генов имеются и у его ближних, и их поддержка содействует умножению таких наборов ДНК. Итак, допущение врожденных компонентов человеческой природы вовсе не означает легитимизации агрессии и эгоизма. Но Пинкер не ограничивается этим негативным заключением. В «Чистом листе» он последовательно доказывает, что признание внутренней природы человека не только не посягает на такие ценности, как равенство возможностей, свобода и справедливость, но и укрепляет их, позволяя смягчать остроту социальных и иных конфликтов. Ведь именно существование единой человеческой природы дает возможность говорить об универсальных ценностях, общих всему человечеству. Исходя из этой предпосылки, можно эффективно бороться с притеснениями людей в тех местах, где они еще преобладают. Отрицание же врожденных стремлений человека к автономии, самовыражению, справедливости, благополучию и т. п. не может не приводить к выводу об относительностивсех этих ценностей, что консервирует дискриминацию и преступные политические режимы. Генетически детерминированные сходства между людьми, подчеркивает Пинкер, значительно превосходят наследственные различия между ними. Тем не менее эти различия вполне реальны. Скажем, мужчины в среднем сексуально активнее женщин, у индивидов существуют наследственные предрасположенности, определяющие различие их характеров, уровней интеллекта и т. п. Нельзя делать вид, считает Пинкер, что всего этого не существует. Напротив, необходимо учитывать подобные факты и искать компромиссные социальные решения, которые, с одной стороны, позволяли бы людям получать по способностям, с другой — не страдать от не всегда благоприятных наследственных качеств и наклонностей. В ряде случаев надо предотвращать проявление негативных наклонностей ужесточением наказаний за проистекающие из них действия. Одним словом, Пинкер призывает не отворачиваться от реальности, а смотреть ей в глаза. Такая честная политика должна принести свои плоды. Он оптимистично оценивает будущее человечества. Интеграция культур уже привела к расширению сферы приложимости морального чувства индивидов, изначально охватывавшего только их ближайшее окружение, на всех людей, живущих на Земле (идея «расширяющегося круга» морального, впервые в четком виде эксплицированная П. Сингером в конце ХХ в.). Сотрудничество и уважение прав других постепенно вытесняют агрессивную конкуренцию и ненависть между народами. Философия, по Пинкеру, может способствовать всем этим процессам, но лишь в том случае, если она будет не умножать мифы, а расчищать поле для все более масштабных эмпирических исследований человеческой природы и сводить воедино их результаты. И не надо бояться, считает он, что материалистическая теория человека приведет к утрате представления о его достоинстве и обессмыслит наше существование. Наоборот, отказ от фантома духовной сущности, поселяющейся в теле человека и сохраняющейся после его распада, научает нас ценить каждое мгновение своей жизни. Литература1.Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2004. 2.Pinker S. The Language Instinct. N.Y., 1994. 3.Pinker S. How the Mind Works. N.Y., 1997. 4.Pinker S. The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature. N.Y., 2002. Примечания:3 Отсюда позднее произошло название суммы логических работ Аристотеля, «Органон». 4 Аристотель говорит здесь о сущности так, как она была определена в его «Категориях», т. е. как об отдельно существующей и воспринимаемой чувствами вещи. 5 Эпикур называл ощущением (????????) и образ, верно передающий очертания предмета, и образ, получившийся из множества носящихся в воздухе образов первого вида. Позднейшие эпикурейцы обозначали второй вид образа выражением «фантастический бросок мысли» (?????????? ??????? ??? ????????). 39 В предшествующие годы Шопенгауэр опубликовал небольшие работы «О воле в природе» (1836) и «Две основные проблемы этики» (1840, на титуле — 1841) и переиздал в 1844 г. «Мир как воля и представление», дополнив свой трактат вторым томом с комментариями к первому. 40 Участив рассудка в восприятии позволяет Шопенгауэру говорить об «интеллектуальности» чувственного созерцания. 41 Первопричиной 42 Мах утверждал, что хотя его цели совпадают с намерениями основателя позитивизма О. Конта, в отличие от последнего, он придает большое значение психологии (5: 14). 43 А именно «психологии чувств», близкой по своему предмету физиологии. Психология в узком смысле занимается соотношениями элементов третьей группы, т. е. приватных состояний, которые не могут рассматриваться как нечто одинаково доступное для всех наблюдателей. 44 Мах симпатизирует юмовской теории Я как «пучка перцепций» и буддистским учениям о душе 45 Главным отличием своих воззрений от взглядов Беркли Мах считал то, что он не рассматривал отношение ощущений или элементов мира к трансцендентной причине последнего, Богу. 46 Гуссерлю пришлось ввести этот искусственный термин, чтобы отличить «реальное» в особом, феноменологическом смысле, от того, что понимается под «реальностью» в естественной установке. 47 Например, в «Амстердамских докладах». 48 Вещь протяженная. 49 «Цель» (греч.) 50 У Хайдеггера в таком значении выступало понятие «событие». 51 В посмертное бытие души в христианском смысле Ясперс не верил 52 Равным образом — любая вера. (Прим. Е. Ф.) 53 Как в «Пире» Платона. 54 Неустранимое для Dasein «бытие-виновным» выражает то же миро- и самоощущение, что и догмат о «первородном грехе». 55 См., напр.: Потебня А. А. Мысль и язык. М, 1989. С. 90 - 98 56 Из письма Райнера М. Рильке от 13 ноября 1925 г.: «Еще для наших дедов «дом», «колодец», хорошо знакомая башня и даже их собственная одежда, плащ, были чем-то бесконечно большим, были им роднее, почти всякая вещь служила сосудом, в котором они находили человеческий смысл, — для таких вещей они приберегали свое человеческое отношение. Теперь же из Америки, из-за моря, к нам навязчиво лезут пустые и безразличные вещи, вещи мнимые и ложные, всякие приманки...» (Письма из Мюзо). 57 Хайдеггер говорил о «бытийно-историческом» сознании. 58 Коннективизм представляет некоторую опасность для иннативиистских воззрений на природу человека, господствующих в мире после «хомскианской революции» середины ХХ в., которая привела к краху бихевиоризма и ряда других направлений. Сам Хомский,впрочем, не видит в усилиях коннективистов особой угрозы для учения о врожденных способностях. Максимум, с его точки зрения, что могут дать их нейронные сети — «объяснить реализацию правилосообразных систем», т. е. в частности, врожденных ментальных модулей. |
|
||
|
Главная | Контакты | Нашёл ошибку | Прислать материал | Добавить в избранное |
||||
|
|
||||