|
||||
|
|
На Колымской землице  Позади остались красивые островерхие горы, будто высеченные юз белого мрамора и упирающиеся в самое небо. Чем ближе Колыма, тем приветливее улыбка Атыка. Скоро конец долгому совместному путешествию на-проходную. Около тысячи километров проделали нарты, петляя по тундре в поисках корма для собак, в поисках чаучу. По Тан-Богоразу точный перевод слова «чаучу» — «богатый оленями». Чаучу это оленный чукча-кочевник в отличие от анкалина, берегового, безоленного чукчи-охотника на морского зверя. Свое каюрство Атык не считает трудом. Такой труд для него удовольствие. Он любит трудиться и трудится весело. Я редко вижу его мрачным. Он сидит, держась одной рукой за дугу, и без конца поет. Поет о том, что вот скоро приедет в Крепость, достанет там много корма для собак, купит росомаху для жены, которая ждет и не дождется Атыка. Увидит она подарок и удивится, ласково: — Каккумэ! Каюры радуются, что скоро Крепость, но, осматривая на каждой остановке лапы собак, сокрушенно качают головами. Уж очень иссушились псы. Доберемся ли на таких до места? И все же во время бега собаки по-привычке поворачивают голову к каюру, чтобы узнать, не прогневался ли хозяин, не нацелился ли он остолом в кого-либо из них? И стоит только Атыку помахать остолом, угукнуть грозно, как вся упряжка с еще большим усердием натягивает алыки. Независимо держится один лишь передовой Эспикр. В нем нет собачьего раболепия. Он смотрит на Атыка, будто говорит хозяину: — А ну поищи на Чукотке еще такого? Серебристо-серой окраской, черной полосой на спине и стоячими ушами Эспикр напоминает полярного волка. Может быть в Эспикре и течет волчья кровь, кто это знает, — здесь же еще не записывали собак в родословную книгу… Атык ценит достоинства Эспикра. При дележе корма на стоянках ему бросает самые жирные куски. Эспикр честно делает свое дело и не боится наказаний потому, что не заслуживает их. Хорошая, работящая, умная собака понимает хозяина с полуслова, знает каждый его жест. Скоро мы покинем пределы Чукотки, полярного форпоста Советского Союза. Близка граница Якутии. Возле меня уже не будет милого Атыка, верного спутника, знатока здешних мест. Но наверное я никогда не забуду его монотонной протяжной песни, детского заразительного смеха, его обожженных кострами натруженных рук… Мы ложимся спать, не доезжая поварни. От костра пахнет пряной смолой листвениц. Сплю на нарте, в кукуле. Мороз — сорок градусов. В кукуле от дыхания образуется корка льда. Ноги в чижах и торбазах. Встаем рано, разбуженные холодом. Утро лунное, будто совсем и не кончалась ночь. А может быть и в самом деле она только начинается… Но часы говорят, что утро наступило, и мы после короткого чаепития едем вперед. Двадцать с лишним дней мы кружили по безвестным рекам и горам, в тундряном лабиринте, закрытом снегами. Наши чемоданы полны писем моряков, оставшихся на зимовке. После того, как на кораблях погасили котлы и перестало работать судовое радио, мы на «Большой земле» будем первыми вестниками с кораблей. Правда, флагманский радист налаживает движок, «Литке» скоро вновь заговорит. Всюду, где проезжают наши нарты, мы слышим одно и то же: «какие новости?» (Или, как здесь говорят, «нобости».). Быть может потому и любят здесь проезжих, что у каждого всегда есть запас свежих новостей. Проезжий — это живая газета в тундре и тайге. Рассказываю о пуске Днепростроя (как раз в тот год Днепр впервые дал промышленный ток), о новой электрической станции во Владивостоке, о новых школах и вузах, об успехах первой сталинской пятилетки. Вместо Ивана Малькова, оставшегося в Островном, с нами едут каюры-колымчане — Яша и Пантюшка Мухины, живые, веселые, черноглазые, как и все здешние люди. Яша в ватной тужурке, без кухлянки, бежит все время за нартой «марафонским» бегом. Он смотрит на свое путешествие в Крепость, как на обычную прогулку, и даже не захватил с собой меховой одежды. Бег согревает его, и человек не знает устали. На каждой стоянке Яша Мухин затевает спор, доказывая, что один съест пол-оленя, если кто согласится вступить с ним в пари. Пантюшка тоже ищет спорщика, который бы не поверил в его способности — съесть на свежем воздухе в один присест половину оленя. Но с Мухиными никто не спорит: жалеют и себя и пол-оленя… Яша Мухин останавливает упряжку. — Дорога уйна! Нет дороги! — объясняет мне Атык. Он тоже стопорит нарты остолом и отправляется вместе с каюрами искать дорогу. Идут, пригнувшись к земле, словно крадутся к оленям, держа в руках аркан. Яша Мухин уходит далеко от каравана. При нем нет оружия. Зверя он не боится. Он говорит: «Волк боится напасть на человека. Только бешеные волки нападают… Неужели же я такой несчастливый, что встречу бешеного?» Мы проехали совсем недолго, и дорога снова затерялась. Ее перемело. Кругом глубокий снег. Танатыргин сокрушается: одна его собака пала ночью. Ненякай печально сообщает, что у него к ночи падут две собаки. Вот, наконец, и поварня! О ней так много говорили в Островном. Доедете до поварни, отдохнете, расположитесь как дома!.. Но это изба без окон, без дверей и даже без крыши. Одни только древние стены. Поварня забита снегом и спать в ней все равно, что в лесу. Перекладины, на которых держалась крыша, давно обрушились. Прорези окон пустыми глазницами угрюмо смотрят на нас. Пантюшка Мухин все же рекомендует задержаться здесь и выставить ему пол-оленя на спор в триста рублей. Но с ним никто не желает спорить, все верят и так в его способности. Вдруг собаки неистово залаяли, очевидно, увидели оленей, зайца или сову. Зря лаять не станут. — Кухх! Куххх! Куххх! — слышатся командные крики передних каюров, и нарты нашего каравана берут влево. — Кулыма нарта поехал! Кулымские нарты! — поясняет Атык. Кто-то едет с Колымы. Вот хорошо! Это значит, что мы пойдем по их следу, собакам будет легче. И каюры довольны встречей. Небольшая остановка, короткий разговор, а главное: узнаём, какая дорога впереди? — Дорога хорошая! — уверяют нас встречные. Это сообщение вмиг облетает весь караван. Едут двое на двенадцати собаках. Одеты легко, не по-нашему. Но, правда, их путь короток, — всего лишь до Островного. Один из проезжих, высокий человек, у которого из обледеневшей опушки малахая виднеются только глаза и кончик розоватого носа, — здоровается с нами, как со старыми знакомыми. Кстати, за три недели нашего путешествия из Певека это — первые встречные люди. Они едут из Нижнего в Островное, на работу в Союзпушнине. Узнаем, что до Пантелеихи еще километров тридцать пять. Атык радуется: «Пантелеиха рыбка есть! Мури, возьми!» Ему нечем кормить собак, и он мечтает купить для них рыбы. Обрадованы и встречные люди. Они для нас, а мы для них проложили путь в снегах. От агента узнаю, что оленные караваны с грузами уже идут в Островное из Амбарчика, с берега Ледовитого океана, где разгрузились наши пароходы, пробившиеся к устью Колымы сквозь льды. Встречные хвалят советских моряков, сделавших большое дело. Атык уважительно вспоминает о морских кораблях. — Товарищ Сталин послал пароход, много пароход! — говорит Атык. Снова слышится: Угууу! Собаки натягивают алык. И через пять минут новое: Угууу! — Мури собака плохо! — говорит Атык. Атык останавливает нарты и спускает передового Эспикра. Эспикр быстро отделяется от упряжки и бежит вперед. Тогда с лаем и визгом за ним, прибодрившись, несутся остальные псы вместе с нартами. Такой прием каюры применяют, чтобы подбодрить уставших собак. И в самом деле, они бегут за Эспикром словно за тренером. Ночью мы в Пантелеихе, на притоке Колымы. Сушимся, пьем чай и едим свежий хлеб. Останавливаемся у заведующего факторией. Я впервые вижу русского, который с таким искусством пользуется интонациями трудного для произношения чукотского языка, он как чукча прищелкивает и пришепетывает, говорит с такими же запевами и придыханиями и также переходит к страстному удивленному шопотку, будто аукается, обрывая фразу на высокой ноте. Вареный омуль и строганина из нельмы лежат горками на столе и дразнят аппетит. На ночь хозяин укрывает меня широким одеялом из двадцати недопесков, а сверху того еще невесомым одеялом из заячьих нежных лапок. Жарко, как на печке. Мне снятся оленные нарты, идущие из Амбарчика в Омолой и Пятистенное, через хребты и реки, от ледяной границы моря, куда пробились с грузами пароходы. Каюры в тальниках речного берега жгут костры. Десятки, сотни нарт движутся по тундре, прокладывают дорогу грузам, прибывшим из-за моря. Едва рассвело — мы уже на ногах. Каюры перевязывают нарты, расстилая на них кукули и оленьи шкуры, чтобы мягче было сидеть. На Колыму выезжаем ночью. Я не вижу градусника, но и без него ясно, что уже за пятьдесят ниже нуля. Дышать можно только внутри кухлянки. Иначе ветер нещадно хлещет в лицо. Ночью не видно широкой Колымы. Впотьмах она кажется бесконечной, как море. Собаки бегут из последних сил, чуют скорый роздых. — Колыма! Колыма! — кричит над самым моим ухом Атык. 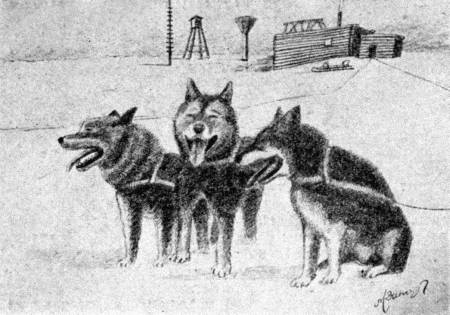 Перед кормежкой Перед кормежкой Высовываю голову из кухлянки. Мороз обжигает щеки. Но радостно видеть манящие вдали огоньки. И невольно вспоминается Короленко… Сколько огней! Мы давно не видели такого селения. Это Крепость! Нижне-Колымск! Он кажется большим и даже огромным. А ведь в нем всего только тридцать девять домов… Стало теплее при одной мысли, что впереди городок и несколько минут всего отделяют нас от встречи с людьми, от жилья и горячего чаю, который вернет нам утраченное в пути тепло. Цепь огоньков далеко протянулась по снежному левому берегу Колымы. Сутулые колымские плоскокрышие дома светятся сквозь льдины, вставленные в прорези окон вместо стекла. Мы вскакиваем с нарт, бежим за ними, радостно ловим мерцающий робкий свет. На берегу шелестит тальник. Жалобно воют местные многочисленные собаки. На улицах городка темно и безлюдно. Вдруг кто-то окликает меня. Я удивлен этой встречей, Оказывается это комсомольцы-метеорологи, с которыми я познакомился в прошлом году во время поездки по Колыме. Узнаю у них, что сегодня температура воздуха: –46°. В тесных каморках Нижне-Колымской гидрометеостанции, кроме метеоролога — комсомольца Штейна, живет семья начальника станции Якушкова и женщина — геофизик. В железных печурках трещат поленья. И все-таки от ледяных окон веет холодком. Холод заметно струится от стен и дверей. На бревенчатых покрытых инеем стенах висят диаграммы, кривые температур за последний квартал года и «розы ветров» с причудливыми «лепестками». По всему полярному берегу, на мысах, где зимуют метеорологи, в занесенных снегами землянках и избушках висят «розы ветров», вычерченные посланцами советской науки. Ледяная тропа, проложенная советскими судами в северных морях, усеяна этими «розами». Над столом портрет товарища Сталина. Атык смотрит на него и говорит: — Это самый большой человек на земле! Сталин — Солнце! В комнате начальника станции портрет Ленина. Атык говорит: — Это Ленин! Ленин — Солнце! Атык знает, что Ленин вместе с товарищем Сталиным прогнали богачей и их приспешников. Атык и каюры-чукчи знают: Ленина больше нет. На Большой Земле остался Сталин: его товарищ, великий человек! Это он послал корабли к берегам Чукотки. Он хочет, чтобы лучше жилось в тундре и на морском берегу. Ночь. На метеостанции скупо, с приспущенным фитилем, светит керосиновая лампа. Она могла бы гореть и поярче, но в Нижне-Колымск еще не доставлен керосин из Амбарчика, и пока следует экономить остатки запасов. Комсомолец-метеоролог Штейн согнулся над столом и что-то чертит. Оказывается, это — опять же «роза ветров». Она получается не совсем красивой. Штейн винит в этом Восточно-Сибирское море и его постояльцев — ветры норд-остовой четверти. Это они-то и дают «розу» с вытянутыми лепестками. Утром я слышу, как Якушков чиркает спичкой и тихонько, на цыпочках, чтобы не разбудить гостей, подходит к анероиду. Я спрашиваю шопотом: — Сколько времени? — Без пяти семь. На завтра Штейн осторожно чиркает спичкой и тоже идет к анероиду. Я спрашиваю и его, сколько времени, и он отвечает то же самое: — Без пяти семь. Несколько дней я наблюдаю их честную точную и преданную работу. На следующий вечер в Ленуголке кинофильм: «Булат-Батырь». Картина из времен Пугачева. После кино бреду от клуба к метеостанции краем всего Нижне-Колымска. В темноте никак не нащупать потерянную тропу, выбитую здесь пешеходами и нартами. Часто проваливаюсь в снег по колени. Наконец, я на тропке. И тогда, в черноте тальника, которым, как забором, затянут берег широкой Колымы, я ясно вижу мерцающий огонек. Он движется. Кто-то идет с фонарем. Это — Якушков. Он ходил на Колыму замерять уровень воды и ее температуру. Если пришел «срок», нипочем для него мороз, пурга, хлесткий ветер. Укутается шарфом так, что открытыми остаются только глаза, и идет выполнять свой долг. Домики, отстоящие друг от друга, кажутся высеченными изо льда. Над каждым домиком столбом стоит белый дымок, выходящий из трубы. Над всеми тридцатью девятью домиками Нижне-Колымска стоят эти столбы, как опознавательные знаки большого мороза. Они напоминают мачты кораблей, до которых немыслимо далеко. Слышен скрип полозьев и хруст снега. Слышится сюсюкающая, колымская речь потомков тех, кто пришел сюда, быть может, еще с кочами Стадухина… Первым, кто сообщил о пути из Якутска в Колыму, был казак Михаил Стадухин. В 1641 году он отправился на «Емоконь» (Оймекон) для ясачного сбора. Построив на Индигирке кочь, Стадухин сплыл на нем с казаками до моря и пошел далее на восток. В низовье Колымы на левой, так называемой Стадухинской протоке, невдалеке от теперешнего Нижне-Колымска, он поставил ясачное зимовье-крепостцу, обнесенную частоколом. Протока эта обмелела, и позднее селение передвинулось на новое место, что верстах в двадцати от старого, как раз против устьев Анюев, впадающих в Колыму близко друг от друга. Однако название «крепости» так и осталось бытовать на Колыме. Был на Колыме лейтенант Дмитрий Лаптев. Он соорудил на Толстом мысу близ устья Колымы грузную деревянную пирамиду, служившую опознавательным знаком. Она и поныне известна под названием «Маяк Лаптева». Были на Колыме знаменитые русские моряки Ф. Врангель, Ф. Матюшкин, И. Биллингс, Г. Сарычев, Г. Седов. В 1909 году Седов описал устье и бар Колымы и соорудил здесь приметные знаки. Колымскими таежными тропами ходили революционеры, сосланные сюда царской властью на погибель. Их помнят старожилы. Многие не выдержали суровой жизни на положении ненужных людей. В колымской избе вместо тюремной решетки на окнах были вставлены льдины, а взамен высокого забора с колючей проволокой беспредельно лежала тайга, из которой не выбраться и самому смелому беглецу. Но не было сил, способных при старом строе проложить путь культуре на колымские берега. Каюры мужчины рассказывают, что их родители боялись отдавать детей в школу. Старая Колыма не знала просвещения. Епервые в 1931 году на Колыме появился, смело приведенный с Лены, пароход «Ленин». Край начал пробуждаться. И о многом говорит то, что колымские каюры стали оставлять в дорожных листах свои подписи-автографы. Только старики еще ставят взамен подписи печати или крестики… Атык на прощанье занимает меня рассказами. Он купил росомаший мех и счастлив. Подарок любимой жене Атык показывает каждому встречному. И еще он купил новую нарту и капканы… Сушеную рыбу каюрам отпустили счетом до Сухарной заимки. Там много собак и много собачьего корма. Утром каюры собираются у метеостанции, чтобы попрощаться с нами. Я передаю Атыку письмо к Козловскому. — Прощай, Атык! Спасибо тебе за каюрство! За дружбу! Счастливого пути, человек Севера! Спасибо, дорогой товарищ по трудной дороге! И Атык в ответ крепко жмет мне руку и тоже говорит спасибо. Еще в пути я заметил, что некоторым русским словам Атык придает особый смысл. «Спасибо» Атык понял как конец дела, конец путешествия, но никак не иначе. Он знает, что у русских принято благодарить не в начале, а только в конце работы. Напившись чаю где-нибудь у костра, я возвращал Атыку его кружку и говорил «спасибо». Это значило, что закончено чаепитие. Спасибо, — это для Атыка слово, завершающее действие. — Спасибо! — сказал мне Атык на прощанье. 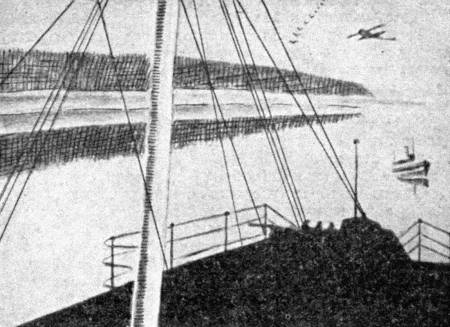 В низовой Колыме на колымском первенце — пароходе «Ленин» В низовой Колыме на колымском первенце — пароходе «Ленин» Один из метеорологов пригласил всех к столу. Отказываться невозможно: подана сельдятка. Мы было спутали ее с селёдкой, но колымчане, улыбаясь, объяснили, что сельдей нет на Колыме. Сельдятка — небольшая рыбка из породы сигов, ее очень много на Колыме, и она замечательно вкусна. Я впервые встречаю такую нежную рыбу. Сельдятка — слово колымское, на других реках его не слыхать. Нашлось у метеорологов для прощанья с каюрами и по стопке водки. Я спросил Атыка: — Сколько будешь ехать обратно до Певека? Он стал считать по пальцам. Чукчи вообще ведут счет по пальцам. Рука это пять, две руки — десять, пятнадцать — хромой человек, кляуль (человек) — двадцать (то-есть, двадцать пальцев). Считать, по-чукотски — «пальчить». Атык ответил, что через десять дней будет обратно в Певеке. Он еще раз попрощался, вышел из дома и, весело крикнув «Тагам!», схватился за дугу, побежал рядом с нартой, больше не оглядываясь. За Атыком тронулись остальные. С последней нарты долго махал рукавицей комсомолец — горячий Рольтынват. Уехал настоящий человек, знаток тундры, следопыт и бесстрашный охотник, мастер нартяной езды, замечательный каюр. И мне стало грустно. Не скоро получит Атык теперь своего Матау, оставленного в тундре. Когда-то заглянет еще в тундру с морского берега? Каюры решили ехать не тундрой, а морским берегом, в Сухарной заимке они возьмут корм для себя и собак, чтобы затем пробираться на-проходную в Певек, к родным ярангам. Там, в Певеке, когда солнце, победив полярную ночь, взойдет над горами, моряки снимут деревянную обшивку с бортов пароходов. Из досок они обещали выстроить большие дома для Райисполкома и школы-интерната. А корабли уйдут на восток… Ожидая оказию, знакомлюсь с жизнью Нижне-Колымска. Городок без улиц, дома с пологими крышами, крытыми землей, речной порт без намека на пристань. Даже мировая война 1914–1918 годов не коснулась этого дальнего угла страны. Колымчан не брали в солдаты, а революция по-настоящему пришла сюда с огромным запозданием, когда по Советскому Союзу рабочие и колхозники уже досрочно заканчивали выполнение первой сталинской пятилетки. Осенью здесь «бежали» все дома, как говорят колымчане. «Бежали» дома означает по-колымски, что во время осенних проливных дождей текли плоские крыши всех домов. Все ждали зимы как милости природы: тогда морозы на много месяцев надежно «починят» крыши. И в самом деле, пришла зима, засыпала крыши снегом, снег сковал мороз, и дома перестали «бежать». В городке выходной день. По зимней заснеженной Колыме бегут нарты. Это катают детишек, забавляют их доступным здесь развлечением. За зиму пятая почта пришла в Нижне-Колымск из Среднего. Собаки доставили ее на нартах. Во времена островновской ярмарки оживали некогда городки Колымы — Средне-Колымск и Нижне-Колымск. Через эти городки лежал путь купцов из Якутска в Островное на ярмарку. Два десятка купцов прибывали с вьючными караванами. У каждого купца было под вьюком от десяти до сорока лошадей. Торг производился купцами и по пути в этих колымских городах. За чай, табак и особенно за водку купцы выменивали у местных людей высокоценную пушнину. С отъездом вьючных караванов вновь замирала жизнь колымских городков… Мы застали в Нижне-Колымске сонную зимнюю жизнь. Короткий день, похожий на поздний вечер, сменялся быстро долгой ночью. Мы не видели здесь восходящего солнца. И единственной нашей радостью была баня. Но иона оказалась по-северному своеобразной. Из большого чана шел облаком пар от кипящей воды и тут же из-под пола клубился холодный воздух, дувший из всех щелей. Ноги наши были на «полюсе холода», а головы… на «экваторе». Однако и этой бане мы были бесконечно рады после двадцатишестидневного пребывания в дороге по тундре и северной тайге. В Нижне-Колымске говорили о том, что городок обветшал. Он хорош был для царской России. В советской стране это — пережиток старины. Уже возникают новые города. Нижне-Колымск заменит Кресты Колымские, а пальму первенства на северной Колыме отберет у Средне-Колымска новый город, затон Лабуя, где будет отстой нарождающегося колымского флота. Колымские города отпразднуют свое новоселье. Колыма, с ее таежными берегами, уже огласилась гудками своих первых пароходов, и они разбудили этот край, прокричали на всю Колыму призывное: «тагам!». Каждый день кто-то проезжает мимо Нижне-Колымска или отправляется из него. Каждый день слышится под окнами собачий лай и крики: «Подь-подь!» и «Куххх!». Колыма — это большая зимняя дорога к новостройкам — новым портам и поселкам… — Чаю не успеешь напиться, а трактор уже за дровами съездил, — рассказывают приезжие об этих новых селениях. Идут по Колыме разговоры про первые колымские тракторы, про первые колымские пароходы… О них говорят восторженно, как о диковинке. Это, пожалуй, посильнее колымских чудинок. Это советские чудинки на краю мира. Год назад мне удалось увидеть в нижнеколымском кооперативе шеренги стеклянных ламп, некогда доставленных сюда американскими дельцами. Эти лампы, очевидно, еще в XIX веке не находили сбыта в Штатах и были сплавлены на Колыму за полной непригодностью для обмена на высокоценную пушнину. Я видел в кооперативе американские бусы, подобные тем, на которые бизнесмены выменивали золото у индейцев. Их тоже янки доставили сюда. Еще в конце XIX века американцы отыскали дорогу к Колыме… Прослышав о богатствах колымской землицы, сюда потянулись искатели легкой наживы и контрабандисты. Из года в год к устью Колымы пробирались американские вельботы. Так же, как на Чукотке, предприимчивые янки обманным путем, за бесценок, выменивали у прибрежного населения пушнину и попутно разузнавали путь к колымскому золоту. Пиратской базой служили берега Аляски. Одну такую шхуну в 1920 году вблизи острова Колючина встретил Амундсен во время северного плавания на корабле «Мод»; Амундсен писал об этой встрече:
Многие из таких «маленьких суденышек» платили гибелью за свою авантюру. Но жажда наживы была сильнее страха перед льдами. Даже в наше время у наших берегов находили свой бесславный конец любители чужого добра. В 1919 году у берегов Колымы льдами раздавило шхуну «Бельведер», в 1922 году шхуну «Игл», в 1929 году близ мыса Биллингса погибла шхуна «Элизиф». В 1930 году раздавило льдами шхуну «Нанук», после чего плавания американцев к устью Колымы навсегда прекратились. Любители чужих богатств, разведчики американских спекулянтов и контрабандистов, пробиравшиеся к северным параллелям России, нередко маскировались под безобидных «исследователей». Так, например, американец Корен[5] собирал на Колыме… Коллекцию розовых чаек. Он женился в Нижне-Колымске, а затем уехал, бросив там и жену, и розовых чаек. Коллекцию Корена вывезла впоследствии экспедиция Амундсена, зимовавшего в 1919–1920 годах у острова Айон. До сих пор старожилы на Колыме помнят экспедицию англичанина Гарри-де-Виндта и его помощника виконта Кленшана-де-Бельгара, воспитанника иезуитской школы. Экспедиция этих двух господ была отправлена в Колымский край американским синдикатом, который задался целью провести трансаляскинскую железную дорогу через Северную Америку, Берингов пролив, Колымский край до Якутска, а затем дальше на запад. Для соединения железных дорог предполагалось построить паром, он должен был перевозить железнодорожные составы с континента на континент через Берингов пролив. Высказывались предположения о прокладке туннеля под Беринговым проливом. Биржевики составили акционерную компанию, развели вокруг своей затеи рекламу и под этот шумок выпустили в Америке акции «Трансаляскинской железной дороги». Благодаря рекламе акции были раскуплены, что повело потом к разорению большого числа доверчивых акционеров. Помимо грабежа легковерных людей, вся эта затея имела и другой смысл: американские железнодорожные короли (одним из них был отец небезызвестного Гарримана) рассчитывали под предлогом постройки железной дороги проникнуть на северо-восток России и прибрать его богатства к своим рукам. Среди царских чиновников высокого ранга нашлись продажные лица, активно помогавшие американцам в их авантюре. Гарри-де-Виндт был снабжен проездным листом «три пера». К листу сургучом были припечатаны три гусиных пера, что означало государственную важность проезжающей персоны и обязанность населения оказывать таковой всякое содействие и готовить вне очереди оленей или собак по первому требованию. Впереди нарт Гарри-де-Виндта следовал специальный нарочный. В проводники англичанину и виконту дали казака Расторгуева, участника знаменитой экспедиции геолога Толля. «Знатные иностранцы» пробыли в Средне-Колымске несколько дней и затем на собаках добрались до Берингова пролива. Это подозрительное «путешествие» легло большой тяготой на якутов и чукчей, с ними так никто и не расплатился за прогон оленей и собак, за гибель многих собак, которых на пути следования загнал иностранный прожектер. Бывали в Средне-Колымске и знатные русские люди. Но все они прибывали сюда совсем не по доброй воле… Первым в 1744 году в Средне-Колымск прибыл русский вице-канцлер внутренних дел граф Михаил Гаврилович Головкин — вельможа двора Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны, сын петровского министра, первого президента коллегии иностранных дел. По совету М. Г. Головкина, Анна Леопольдовна собиралась объявить себя императрицей, но ей помешал дворцовый переворот. На престол вступила Елизавета Петровна, дочь Петра Первого. Не считаясь с тем, что Головкин был в родстве с ее домом, императрица приказала арестовать вице-канцлера, его судили и приговорили к смертной казни, как государственного преступника. Потом смертный приговор был заменен ссылкой. Граф Головкин прибыл в Средне-Колымск вместе со своей женой Екатериной Ивановной, урожденной княжной Ромодановской. Елизавета Петровна считала Головкину непричастной к преступлениям мужа и сохранила за ней звание придворной дамы со всеми привилегиями. Но Головкина ответила царице: «Любила мужа в счастье, люблю его и в несчастье, и одной милости прошу, чтобы с ним быть неразлучно». Два с половиной года добирались Головкины из Петербурга до места ссылки. Четырнадцать лет прожили они в Средне-Колымске. Граф умер. Жена, залив воском тело покойного, выехала в Москву, чтобы там предать земле останки провинившегося вельможи. Поселение Головкиных в Средне-Колымске положило начало ссылке на Колыму неугодных царскому правительству лиц. Как доносил в Петербург прапорщик Пальмштруг, приставленный к Головкину для наблюдений за ним, жизнь в Средне-Колымске в те времена была невыносимой. Пальмштруг писал: «Здесь жителей весьма малое число, и питаются токмо одною рыбою, а иногда, по времени, бывает рыбы недолов, как и сего году, то и жители терпят голод и едят сосну[6]. А арестантам, яко непривыклым людям, то снести невозможно. К тому же и рыбою удовольствоваться в неуловное время не можно…». Проходили годы, а жизнь на Колыме мало изменялась. Названия многих колымских мест, сохранившиеся с дореволюционных старинных времен, сами говорят о себе: «Кресты», «Могильный», «Убиенное», «Погромное», «Походское…». Не изменился и климат с того времени. Не стало теплее в Нижне-Колымске. Те же пятидесятиградусные морозы, те же слепящие пурги, те же штормы и туманы, что были много лет назад. Но сколько ныне нового в этом суровом крае. На безлюдных прежде берегах раскинулась сеть радиостанций. Строятся здесь и рудники, и многолюдные поселки. «Натура» Севера отступает перед человеком, выполняющим план, начертанный великим Сталиным. От амбаров и складов Амбарчика расходятся караваны грузовых нарт. Идут с грузами и олени, и собаки, и лошади. Лошади здесь лохматые, необычные, обросшие густой шерстью — защитой от стужи. Вторую неделю подряд держатся сорокаградусные морозы. Но такие температуры не считаются здесь лютым холодом, они не препятствуют нормальному ходу жизни и работы. Дети продолжают веселой гурьбой ходить в школу, после уроков они катят на нартах в тайгу за дровами. Дни сумеречные, короткие, ветреные. Ночи длинные, ясные, звездные. Солнце почти не показывается над горизонтом. Но днем, часа два-три, можно у окна почитать газету, не зажигая лампы. С утра за правым берегом Колымы вырастают крутые горы. Их не было вчера. Они высятся до самого вечера. Ультрамариновые вершины манят тайной неведомых горных хребтов. Погас короткий день. Исчезли горы за Колымой. Это была лишь рефракция — причуда преломления световых лучей в воздушной среде. Благодаря рефракции, высота обычных предметов кажется подчас гигантской, и маленький бугорок вырастает в горный кряж. Рефракции нередко тешат взоры колымчан самыми необычайными пейзажами. Да разве мало тут и других неожиданностей. С удивлением узнаю, что на радиостанции завелись горностаи. Они живут под полом машинного отделения. А в прошлом году стая белок пришла сюда из тайги. Быть может, палы (пожары) выгнали их из тайги. Несколько белок забрались на радиомачту. Когда вахтенный по уборке помещения выливал осенью помои, с соседних озер слетались к радиостанции дикие утки. Они вели себя, как домашние, и совершенно не боялись человека. По совету колымчан занимаюсь пополнением путевого запаса пельменей. Колымчанин зимой считает пельмени наилучшими таежными консервами. Они лежат у него за прядкой нарты в мешке, не портятся на морозе. Достаточно развести костер, набрать в кастрюлю снега и, вскипятив снежную воду, бросить туда пельмени, как готово прекрасное и сытное блюдо. Я покупаю в кооперативе подарки для будущих знакомых, заимщиков, которые встретятся на пути, это — кирпичный чай и черкасский листовой табак. По соседству с метеостанцией двое колымчан ремонтируют дом. Из ковша с саженной ручкой один поливает водою стену своей сутулой бревенчатой избы, другой огромной лопатой набрасывает снег на смоченную стену. Штукатурка из мокрого снега ложится ровно и плотно. Это называется «леденить» дом. Как и все соседские, домик быстро становится белым и празднично-нарядным. Издали он кажется вытесанным изо льда. Все дома облеплены своеобразной колымской «штукатуркой». Блещет снегами широкая Колыма. Еще полгода продлится здесь зима. Но ее не страшатся даже дети. 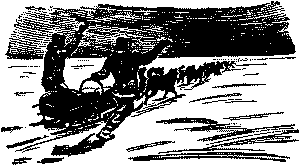
Примечания:5 Прибывший на шхуне «Киттиуэйк» в 1911 г. 6 Надо полагать: толченую кору лиственицы. — М. З. |
|
||
|
Главная | Контакты | Нашёл ошибку | Прислать материал | Добавить в избранное |
||||
|
|
||||
